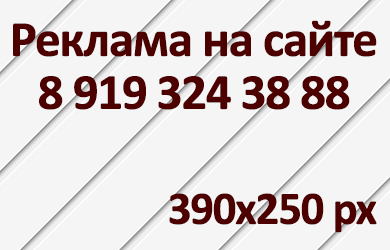Упаси бог советского человека лезть в свою родословную! Тут же обнаруживался прадед-кулак, дед казачьего сословия или родственники за границей. С огромным опозданием, но интерес к жизни собственных предков в наши дни возрождается. Архивы получают запросы от простых людей — чем владел мой прадед? Куда и почему уехал из деревни? В первой части семейных хроник нашего автора «Дети, бегущие от грозы» вы узнаете, как жили наши предки на Урале и в Сибири в десятые годы 20 века.
Петр, Евдокия и дочь их Устинья
Часть 1
Машинка «зингер»
В 1916 году родители моей бабушки Устиньи благословили ей зингеровскую швейную машинку. Впрок, в приданое. Основательный отец Петр Михайлович привез в дом машинку года за три до свадьбы. Зеленоглазой красавице тогда исполнилось всего 14 лет.
Надёжный механизм, закрепленный на литой чугунной станине, потом лет 70 кормил всю семью. Машинка всегда стояла у окна под божницей – куда бы ни переезжала Тина.
Швейная машинка «Зингер»
…Это было летом в начале 60-х. Стояла долгая, необъяснимая гнетущая жара. Потом поднялся ураганный ветер – как перед грозой – и на соседней улице вспыхнул пожар. Ветер понес огонь на только что отстроенную бабушкину усадьбу.
Бабушкин младший сын Гриша прибежал с работы, моментом поднял на крышу несколько ведер воды. Если бы искры вдруг посыпались на дом, – он заливал бы водой горячее кровельное железо. Упреждая огонь, дядя Гриша расплескал пять-шесть ведер на кровлю с опасной стороны.
А ветер усилился и гнал стену огня прямо на нас!..
Вот уже раздались крики и плач соседки напротив – над ее сараем вдруг поднялся дымок! Треснуло от жара окошко в баньке! Огород полон зелени, не загорится, но старый плетень высох как хворост – по нему пламя жадно перекинется на нашу улицу… Все раскалено летним зноем, все деревянное, а каменных строений вообще нет в округе.
Бабушка Тина, повторяя слова молитвы, не мешкая, вывела нас из дома на картофельное поле. Тут с плачем и криками «вы живы?!!» подбежала наша вторая бабушка – Антонина. Только тогда Устинья Петровна ринулась в дом выносить самое необходимое. Вместо того, чтобы спасать документы и деньги, припрятанные за божницей, баба Тина в одиночку схватилась за швейную машинку! Для женщины самым ценным сокровищем оказалась ее кормилица. Устинья Петровна потащила машинку в огород, на безопасные картофельные рядки.
Когда пожар на соседней улице потушили, бабушка сама поразилась своему мощному рывку! С неподъемной чугунной станиной выбраться из сеней, стащить машинку вниз с высокого крыльца, толкать ее через двор, мимо бани и курятника, потом уже с бабушкой Антониной тянуть станину мимо грядок и кустарников… откуда только силы взялись? До сих пор вижу ее растерянную улыбку сразу после переполоха, когда кто-то из взрослых стал подшучивать над чемпионкой.
Тапочки
Чем же так ценна была машинка? Главный вид шитья у бабушки был ремесленный – заготовки для тапочек. Бабушка ловко прострачивала кожаный верх, делала узор, а Гриша точно и красиво пришивал подошву с помощью шила и дратвы. Окончательную ровную форму обувь приобретала на деревянных колодках.
У них получались вовсе не домашние тапочки, как вы можете подумать. Нет! Это была фантастически удобная универсальная обувь на все случаи жизни.
Обувь респектабельная – она поблескивала благородным черным тоном, как нарядные туфли. Собираясь на работу, вы могли освежить туфли ваксой и бархОткой. Обувь легкая и спортивная, как кроссовки. Крепкая и прочная – не забывайте, в ход шла только качественная натуральная кожа. Плюс ко всему это была ортопедически полезная обувь! Она шилась именно по твоей ноге. И если ты был старенький, с выпирающей косточкой у большого пальца, — ты благословлял эти тапочки за то, что не чувствовал их на ноге.
Стоили тапочки три рубля.
Ни одна из скудных моделей, пылившихся тогда на магазинных полках, не могла сравниться с этими туфлями-кроссовками-тапочками. Только пережив тотальный дефицит и карточки девяностых годов, я понимаю, почему заказы на бабушкины тапочки никогда не переводились. Пожалуй, на них не исчез бы спрос и в наши дни, когда обувные прилавки чем только не завалены.
Бабушка родилась 25 октября 1902 года в селе Глядянском нынешней Курганской области. Это название постоянно звучало в воспоминаниях старших. Глядянка!.. Она вызывала смех у нас братом. Ишь какие глазастые были бабушкины земляки, деревню Смотрянкой назвали.
Только в 2013 году я нечаянно узнала, в каких трагических обстоятельствах деревня получила своё славное имя.
Глядянская церковь
Деревня Глядянка.18 век
Оказывается, предки нашей бабушки по материнской линии в незапамятные времена (18 век) переселились из губерний центральной России на новые земли. Позднее многие первопроходцы оказывались раскольниками-кержаками из разоренных скитов. Они поначалу не подозревали, что место для своего селения выбрали самое неудачное – вблизи Царева Кургана. А курган считался святыней для всей округи!
В этот отрезок времени здесь кочевали за своими стадами воинственные киргиз-кайсацкие племена. В прекрасной долине реки Тобол кочевники не желали терпеть чужаков. Пришельцев убивали, разоряли, уводили в плен.
Богатства озер и рек, пастбища, удобряемая половодьем плодородная земля, рыба, пушнина, брёвна для изб, – за всё это вольным хлебопашцам пришлось заплатить многими жизнями и частым разором. Меж Тоболом и речкой Глядяной избы тоже не раз рушились и горели после набегов кочевников.
Эта история осталась ненаписанной. Известно только, что изгнанные кочевниками крестьяне к концу 18 века стали селиться плотнее, кучнее – в слободах. Так им удобнее было держать оборону. И вот доподлинно задокументировано, что в 1768 году семья крестьянина Утяцкой слободы Андриана Копровича Воденникова снова поставила избы в той притягательной богатой долине на двух реках. Постепенно выросли две деревеньки – Полусальная и Худякова. Их тоже терзали кочевники, заливал весной Тобол, жгли пожары в засуху. После очередного разора жители переселились чуть выше по течению Тобола, объединились – и вот живет село Глядянское, райцентр Притобольного района, неколебимо уже скоро три столетия.
За прИшлыми крестьянами не стояли власти. Наоборот, эти люди убегали от властей в бескрайнюю Сибирь, как в единственно свободный край. В большинстве своем староверы, они не были казаками или солдатами, не строили «острогов» — крепостей. Нет, эти отчаянные смельчаки отбивались от неприятеля сами, как умели.
Чтобы набеги реже заканчивались разором и смертями, первопоселенцы тоже стали действовать как дикое воинственное племя.
Первые жители Глядянки построили из досок небольшой помост на самой высокой сосне. С ее вершины хорошо просматривалась округа. Отныне на помосте днем и ночью по очереди дежурили молодые крестьяне. Они г л я д е л и. Вряд ли у воинов была подзорная труба — просто зоркие глаза и наблюдательность.
Птица поднялась над кустарником – не крадется ли там разведчик? Мелькнула тень на опушке – что за тень?.. При малейшем признаке набега часовые подавали сигнал тревоги, и жители готовились к обороне.
Если жители Глядянки явно не могли отбить атаку, раздавался не сигнал, не крик, а звериный рык — беги!!! Бежать надо было врассыпную. Или прятаться в надежных схронах вблизи усадьбы.
«Светопреставление»
Эти ужасы 18 века лет двести жили в подсознании потомков основателей деревни. В 1918-1919 годах прежние навыки вдруг припомнились сами собой. Долго, страшно, нескончаемо шла гражданская война. Красные, белые и белочехи наводнили округу. Рядом шли бои. Ворвавшиеся со стороны железной дороги люди, все с оружием, шли через замершую в ужасе Глядянку. Требовали провианта. Хлеб, молоко крынками, овощи, картошка… Первое время коров не забирали, а овец и куриц пропало без счета. Крестьяне терпели, жаловаться некому:
– Только бы жечь не начали.
Устинья Позднякова в то время была статной русоволосой красавицей на выданье. Гордая осанка, матовая кожа и нежный взгляд – глаза зеленовато-карие, ясные. В улыбке обнажались белоснежные зубки, в движениях притягивала сила и кошачья грация. В конце октября 1918 года ей исполнилось 16 лет. Месяцем позднее дня рождения Тина была сосватана и помолвлена – но война после этого длилась еще без малого год!
Сестры Степанида и Анютка выглядели беззаботными подростками. Младший брат Матвейка то и дело исчезал из избы и тайком карабкался на крышу. На дороге постоянно появлялись чужие люди, он боялся что-то пропустить. Мать Авдотья Фирсовна согнала мальчишку вниз, отшлепала и держала возле себя.
1910 год. Сельская кузница
Еще в начале «светопреставлЕния» мать и оставшаяся за командира бабушка негромко меж собой потолковали и заперли девок в подполе. Слухом земля полнится. Накануне вечером несколько крестьянок попались на потеху пьяных вояк. Утром об этом знала вся Глядянка.
Баушка (так ее все звали) рассудила спрятать своих внучек-красавиц в том потайном подполе, о котором даже дети не знали. Обширный удобный голбец был выкопан в комнате-боковуше в незапамятные времена. Что-то мне подсказывает, что крестьяне и в прежние века кого-нибудь время от времени прятали в голбце. Уж очень хорошо он был обустроен, по словам бабушки. Сухой, высокий, обшитый побеленными глиной досками – и никакого следа, что тут хранили овощи.
Пожилая дама не разбирала – от белых, красных, от солдатья или офицерья приходится прятать девочек. От всех! Люди в зверей превратились.
Баушка придирчиво осмотрела подпол и велела принести туда питья, еды, старых полушубков и подушек, да еще ведро – сами знаете для чего. Девкам было велено огня не зажигать, голоса не подавать, семечки грызть бесшумно. Поверх лаза, ведущего в голбец, Баушка в два слоя настелила половички и приказала поставить стол. Чтобы ни у кого не появилось желания за него присесть, на скамье у входа в боковушу она разложила выстиранные старые вещи («ремкИ» по-местному).
Баушка стала не торопясь резать ремки ножницами на узкие полоски. Полученные полоски полагалось туго скручивать и сматывать в клубки, мотки («вот, вот, вот – и напряла баба мот», — была тогда такая поговорка). Из этих мотков потом ткали на кроснах полосатые дорожки- половички или вязали деревянным самодельным крючком к р у ж к И. Поначалу дочь Авдотья взглядывала на Баушкино рукоделье удивленно, но вскоре и сама включилась в работу. Сердцу спокойнее, пока руки заняты.
Рубикон
В 1918 — 1919 годах Тобол считался тем Рубиконом, перейти который означало – победить. По крайней мере, так казалось штабам и красных, и белых. На многие километры по течению реки шли боевые действия с захватом бронепоездов, с переходом деревень из рук в руки до пяти-шести раз, с участием орудий, конницы, аэропланов. На одном отрезке реки даже мост попытались взорвать. Наступающая сторона сбросила снаряд с аэроплана! Но бомбу унесло ветром – промазали.
Сколько раз в 1918-19 годах белые и красные переправлялись через Тобол и выбивали противника из малых деревень, – в этом запутались даже военные историки.
Солдаты наводнили всю округу. Пока не завязывался бой, они грабили деревенские дворы, силой хватали женщин, добрались до скота и погребов. Жители Глядянки с ужасом рассказывали друг другу о кровавых стычках, о брошенных трупах, о ночных передвижениях подозрительных обозов.
Вдали гремели орудия, чуть ближе строчили пулеметы. Война прокатилась по улицам, по полям.
Было два-три дня, когда мать и Баушка со слезами и молитвой метались по избе и боялись близко подходить к окошкам. Ставни закрыли. На два засова задвинули все двери.
Матвейка совсем перестал разговаривать, но не ревел. Сёстры плакали и молились, прижавшись друг к другу.
Наступление на всех фронтах не могли остановить
Стоял отдаленный орудийный грохот. По улице ехали конные, тачанки с пулеметами.
В те дни усадьба Поздняковых занялась огнем от удара снаряда. Если бы не командирша-Баушка, — сгорело бы всё подчистую! Она бросилась тушить вместе с Авдотьей, Матвейка кинулся колотить в закрытые ставни соседних изб, крича дурным голосом «Помогите!!»… В деревянном краю пожары часто вспыхивали и в мирное время, вода и песок всегда были наготове. Мать и Баушка вместе с соседями потушили хозяйственные постройки, залили, прослезились на пепелище.
Дом сильно не пострадал. Зато саманница, где было припрятано зерно, почти вся выгорела. Мука, рассказывала бабушка Тина, так спрессовалась и запеклась от жара, что ее потом не ели ни коровы, ни лошади.
В те страшные дни в Глядянке хозяйничали одни пожилые бабы. Избегая мобилизации белых и красных, многие пожилые мужики таились все это время на заимках либо в охотничьих сторожках в чаще леса. Кто прав, кто виноват в небывалой междоусобной резне, – им было тяжко разобраться.
Тайный сигнал
До 21 века в нашей семье сохранилось предание о прадедушкиных конях. Эту быль с удовольствием любила повторять со слов своей матери дочь Устиньи Петровны Полина (моя мама). Маме шел восемьдесят седьмой год, а она рассказывала о дедовых лошадях азартно, как подросток:
– Кони у дедушки Петра были самые быстрые, самые красивые в округе, серые в яблоках. Никого чужого они и близко не подпускали. Пока шли бои, — лошадки скрывались, а где – никто так и не узнал.
Когда еще только стали надвигаться войска, Петр Михайлович велел старшей дочери Устинье, всегда помогавшей ему в поле, открыть конюшню и выпустить коней. Два всадника погнали свой табун далеко от деревни. От бешеной скачки у девочки гулко забилось сердце. Наконец отец остановился на границе дальнего бора и глухой кустарниковой пустоши. Место неприветливое, далекое от ягодных троп и покосов. Какие тайные заговоры произнес Петр Поздняков, какие команды подал коням, – нам про то неведомо. И спросить не у кого. Но только кони жили на воле свободным табуном до окончания кровавой резни. К дому ни разу не подошли. Мчались от чужих, не давали себя заарканить.
Кони у Петра были серые в яблоках
Не иначе, здешние кони были к таким штукам привычны. Оно и понятно. Не научи деревенские своих коней скрываться в 18 веке,–- всех лошадок увели бы киргиз-кайсаки в первый же набег.
Но вот война откатилась далеко от истерзанной долины Тобола. На этот раз старики были уверены – навсегда.
Был август 1919 года. Сёстры ослепли от солнечного света, когда впервые среди бела дня выбрались из подпола на волю. Поспевал хлеб, выше человека стояла некошеная трава. Пели птицы, отсвечивали жёлтым подсолнухи, звенели-заливались на жаре кузнечики.
Ранним утром, по холодку добрались Устинья с Авдотьей Фирсовной до колючей кустарниковой пустоши. Волновались и радовались одновременно. Устинья подала потайной сигнал. Тишина. Еще раз! – и кони невесть откуда во весь опор полетели на ее зов.
Жители Глядянки поблагодарили Бога за то, что снова спас и сохранил деток и селение – и опять стали работать.
Но рано они радовались. Пока на истоптанных конницей полях крестьяне спасали свой урожай, обе великие армии гражданской войны собирали силы для новой кровавой схватки.
14 ноября 1919 года Пятая армия красных под командованием Тухачевского снова форсировала Тобол. У красных было 135 орудий и 37 тысяч штыков и сабель. Силы белых казались равными, но еще раз отбросить красных за Тобол они уже не смогли. Что тому причиной — ледяная полая вода или ломкий лед, — неважно. Сопротивление выдохлось. Колчаковцы стали отступать вглубь Сибири, снова цепляясь за каждую версту на сибирской земле. Битвы шли еще более кровопролитные.
В деревне Закоулово с той далекой поры осталась братская могила красноармейцев.
Бабушкин дом в Куртамыше. 60-е годы
В городок Куртамыш семья бабушки Устиньи переехала в конце сороковых годов. На переезде решительно настоял муж Никифор Иванович. Он мечтал дать детям образование. А в Закоулово, где они тогда жили, не было десятилетки.
В Куртамыше у Кузнецовых был сначала низенький старый дом. Через несколько лет после смерти мужа Устинья Петровна выстроила новый дом, из отборных сосновых бревен. Сосны в округе росли доисторические, невиданной толщины. Изба получилась прямо шикарная. Высокая, квадратная в плане, пять окон в улицу. Одна горница большая, вторая чуть меньше, просторная кухня (изба) с русской печью и полатями. В светлой горнице стояла вторая печка — круглая печка-голландка, выкрашенная в черный цвет. У нее все печное литьё было красивым, необычным. Эта печка отапливала зал и боковую спальню.
1909 год игра в лошадки. Курганский уезд
Из избы низкая мощная дверь с высоким порогом вела в удобные широченные сени с большим окном. Летом здесь готовили и спали, спасаясь от ночной духоты. Из сеней столь же массивная дверь выходила на высокое крыльцо.
Дом стоял на крутом холме над двумя небольшими озерами. Они были разделены узкой полоской суши, по которой шла дорога. Каждое утро зелёные берега озер будто снегом покрывались гусиными стаями. Гуси наслаждались сочной луговой травкой и скольжением по теплой воде, набитой ряской. На ближнем к дороге озерце хозяйки иногда стирали половички на мостках. Если кто-то из обитателей городка затевал стройку, — плотники выуживали тину из стоячей озерной воды и сушили ее на берегу, чтобы сухой тиной протыкивать зазоры меж бревнами.
Завсегдатаям птичьего рая людская суета не нравилась. Гуси чистили перышки и поглощали траву тоннами. Луговина на берегу всегда имела вид подстриженного газона. Когда белые стаи переваливаясь, отбывали на ночлег, с чистой зеленой травы женщины набирали целые перины гусиного пуха.
Из окна бабушкиной кухни виднелся корабельный сосновый бор, чуть левее – городской стадион, а правее – так называемый Кулацкий поселок.
В шестидесятые годы 20 века Устинья Петровна была крепкой степенной женщиной, среднего роста, с простым крестьянским лицом, освещенным кроткими зеленовато-карими глазами. Длинные русые волосы она по-старинному разделяла на аккуратный тонкий пробор и убирала в простую прическу. Белоснежная улыбка и добрые глаза остались прежними, но к тому времени бабушка заметно сутулилась. Это от постоянной тяжелой работы, в том числе за швейной машинкой.
«Не Узнато!» 1961 год
До школы мы с бабушкой Устиньей почти не расставались. Мы с братом Игорем жили у нее в Куртамыше целое лето, а на зиму она приезжала к нам под Челябинск – приглядывать за детьми, вести хозяйство. Так получалось, что мама Поля целыми днями была на работе.
Мое природное любопытство заставляло меня надоедать бабушке расспросами о том, что кушали в старину, во что играли, над чем смеялись, был ли у них граммофон… Я однажды даже бестактно поинтересовалась, не выпивали ли старшие лишнего по праздникам – и что именно стояло на столе. Бабушка без всякого раздражения ответила, что дед Фирс Федорович был совершенно непьющий, а курящих незлобливо осуждал. А «тятенька» Петр Михайлович пригублял только по большим праздникам и тоже не курил. Первые годы моей учебы в школе совпали со стремительным освоением космоса. Обе мои бабушки как сына полюбили Юрия Гагарина. А я, маленькая всезнайка, нахватавшись верхов, не удержалась от «просвещения» глубоко верующей бабушки Тины.
– Бабушка!, – однажды пристала я к ней. – Вот как ты объяснишь – Гагарин был в космосе, но он же не увидел там Бога?..
– НЕ УЗНАТО, – спокойно ответила баба Тина.
Через десять лет, уже студенткой, я повела ее под ручку в Куртамышскую церковь. На бабушкиной голове был новый платок. Она надела один из тех благообразных темных костюмов, которые обычно строчила сама на машинке, подгоняя по фигуре. Помню, мне особенно нравился верх той обновки – просторная удобная блуза: скромный глухой ворот с прямым воротничком, сдержанный рисунок ткани и ровный вертикальный ряд маленьких темных пуговок. На аккуратных ножках бабы Тины в тот день были легонькие кожаные туфли, с любовью сшитые дядей Гришей.
Храм Петра и Павла в Куртамыше никогда не закрывался
Бабушку окликали знакомые, и она отвечала на вопросы приветливо, но немногословно.
У высокой каменной ограды церкви бабушка перекрестилась и неожиданно наклонилась, отыскивая в углублении под белоснежной оградой какой-то предмет. Это был носовой платочек! Бабушка с достоинством вытерла пыль со своих туфелек и положила платочек на то же место. Все ли верующие таким образом очищали обувь у ограды храма или это был только бабушкин ритуал, — мне было неудобно спрашивать.
Фея по имени Баушка. 1906 год
…На мой лукавый вопрос, целовалась ли она с женихом, баба Тина застенчиво ответила – «а куда денешься?». Из этих двух слов я сразу вывела, что не уклониться от поцелуя для 16-летней Устиньи было не меньшей смелостью, чем обнять самой. И конечно же, ее удалой молодец Никифор был настойчив и нетерпелив.
А однажды она рассказала мне о своей добрейшей фее-сказочнице – о Бабушке. О том, как Баушка обманула ее, доверчивую Тинку. Это было в Глядянке примерно в 1906 году, раз маленькая Тина хорошо запомнила семейную сценку.
Тятя с маменькой собрались на ярмарку или в гости, на несколько дней. Отец передал хозяйство своему безотказному тестю Фирсу Федоровичу, не забыв ни одной мелочи про обитателей конюшни, овчарни и коровника. Русоволосая Евдокия Фирсовна, ладная и тонкая в поясе, оделась во все лучшее.
Неожиданно для всех старшая дочка стала настойчиво проситься ехать с матерью. Никакие уговоры и обещания не могли остановить Тину. Разревелась, вцепилась в пышное мамино платье. Вслед за старшей запищала младшая сестричка. Отец нахмурился. Мать не знала, как быть.
И тут голос подала молодая громкоголосая Бабушка:
– Ой, ногу подвернула, ой, болит, сильно болит!
Это называется ложь во спасение. Под белы руки повели слукавившую Баушку в дом. Внучка Устенька кинулась к ней, жалостливо заглядывая снизу вверх в родное лицо. Тем временем Петра и Авдотью умчали кони-молнии.
– Родители верхом поскакали? – дотошно начала допытываться я (у мамы над кроватью тогда висела репродукция брюлловской «Всадницы», а у меня–- «Дети, бегущие от грозы» Маковского). – Или родители на телеге поехали? Или на бричке?
– Да Бог с тобой, на телеге! – с досадой на мои глупые представления о старине ответила бабушка Устинья.– У нас была красивая коляска, на карету похожа. Когда престольный праздник, в тот день не работали – в гости к родным ездили. Как можно на телеге? И к нам тоже гости приезжали на самых лучших лошадях. Сбруя блестит, сами одеты в лучшую одежду. А если зимой, то и сани у нас были – как игрушечки.
Я тогда на автомате отметила – семья крестьянина Позднякова ничего себе, нормально так жила, не бедствовала. Большой дом, конюшня, возки для гостевых выездов, табунок серых в яблоках лошадок…
…Но это я к чему? – А к тому, что мой славный прадед Петр Михайлович летом 1918 года на всю жизнь научил свою дочь Устинью — как ей вернуть домой этих драгоценных лошадей, серых в яблоках коней! Как властвовать над ними – чтоб повиновались.
Время смутное. Война. Не белые, так красные могут порешить отца семейства, застрелить по первому подозрению. Или же без разговоров поставить рослого немолодого мужика под ружье и увезти с собой.
Да, юная хозяйка Устинья Петровна знала тайный сигнал и позвала коней, пока отца не было.
(С красными, белыми или «уклонистами» ушел Петр Михайлович, – бабушка не говорила. Судя по тому, что прадед жил остаток своего века без преследования, – он не уходил с белыми).
…Да! Устинья должна была навсегда запомнить тот свист, крик или звериный рык, которым надо отогнать табун от деревни, а потом вернуть на усадьбу. И она ведь знала, помнила, умела.
Вот что надо было спрашивать у бабушки!
Но меня тогда больше интересовало, позволяла ли она себя целовать своему суженому – тайком от родителей.
Когда в Тоболе отражалась луна. 1914 год
В роду Петра Михайловича Позднякова бездельников не было. Хоть здоровый, хоть больной – отец допоздна трудился в поле. Успевал крутиться на току, на сенокосе, запасал дрова, работал в коровнике, в огороде. Матери Авдотье тоже дел хватало – всех накормить, одеть, обстирать, коров подоить.
1910 год. Посевные работы в Сибири
Когда Устинье исполнилось семь лет, Петр определил старшую дочь в главные помощники. Они с рассветом выезжали в поле и возвращались, когда в Тоболе отражалась луна.
В большой поздняковской усадьбе осенью скапливалось много тяжелой работы. В одиночку усердному хозяину справиться было невозможно. Выводок крошечных дочек цеплялся за Авдотьину юбку, в зыбке пищал новорожденный сынок. Порой Петру Михайловичу становилось до того их жалко, что словами не сказать.
И вот Петр взял в работники сына свояченицы. Вдова Лизавета приходилась родственницей жене его старшего брата. Первый сын Лизаветы, Прохор, вел хозяйство, а средний сын Егор нанимался в страду к чужим за хорошую плату. Только зимой Егор отдыхал от тяжелой работы – охотился на зайцев, лис и косуль. В этом с Егором никто из местных мужиков не мог сравниться.
Крепкий добродушный парень, если чего и не умел – учился моментально. Петр Михайлович обещал свояченице не обижать Егорушку – и сдержал слово. Любая пара рук стоила для него дороже денег.
Бог долго не давал Петру и Авдотье сына. За сына была у них Устинья.
Уже годам к двенадцати она стала правой рукой отца в хозяйственных делах. Толковая, неторопливая, бережливая дочь. Она ни перед чем не робела и умела спросить с других.
1916 год. Зауралье. Крестьянская семья у колодца
«На нас напали злые чехи». 1918 год
…Летом 1918 года по всему Транссибу, в том числе в Челябинске и Кургане, поднялся мятеж многотысячного чехословацкого корпуса.
После заключения Брестского мира большевики столкнулись с проблемой солдат из Чехии, Словакии и Польши, перешедших на их сторону. Из лучших побуждений, предотвращая расправу с чехами на границе, Москва разрешила им вернуться на родину… через Сибирь! Не знаю, точны ли подсчеты, но в разных источниках упоминается, что в этих эшелонах находилось не менее 50 тысяч солдат.
Первая попытка местных властей отнять у солдат корпуса оружие вызвала кровавый многомесячный конфликт. Хорошо обученные, испытанные в боях иностранцы легко завладели огромной территорией, подмяв под себя обе воевавшие стороны – Советы и белое движение.
…Обгоняя тревожные вести, Петр, Авдотья и пятнадцатилетняя Устинья всё это время не разгибая спины, трудились в поле.
Занялся ветреный пасмурный день – по типу погоды настоящий с е н о г н о й. Они ставили копны. Рядом работали младшие – голубоглазая Стеша, смешливая Анютка и проворный белобрысый Матвейка.
Если много скошенного сена останется в валках, а дожди зарядят надолго, — это уже не корм. Чернота неба давила, заставляла двигаться быстрее.
Никто не заметил, как с лесной дороги вынырнула фигурка всадника. Откуда ни возьмись среди копёшек появился Егор. Вот те раз!.. После первых стычек с чехами в Челябинске и Кургане о Егоре ничего не знала даже родная мать.
На расспросы не было времени.
Вся Транссибирская магистраль оказалась во власти 50-тысячного войска чехословацких легионеров
Вот уж небо рассекла первая молния! Гром оглушил, Матвейка даже присел, схватившись за голову.
Повзрослевший Егор отмахнулся от девичьих визгов – ой, страшно!! ой, потеряшка нашелся! – и не говоря ни слова, впрягся в работу.
Отец перехватил проницательный женский взгляд, искоса брошенный на детей Авдотьей, – и незаметно кивнул жене. Вот тебе и Егор. Как там ни сложись, он будет крепким хозяином, не век ему батрачить.
Тихое неудовольствие. 1909 год.
В сельскую школу Устинья ни дня не ходила – только в церковь по воскресеньям.
Еще когда девочке исполнилось семь лет, дед ее Фирс Федорович, книжник и знаток священного Писания, впервые нарушил свой давний зарок – не встревать в дела молодых.
Дед очень хотел, чтобы умница-внучка выучилась грамоте. И не принимал женскую мудрость Бабушки-Баушки, которая мягко и кротко оспаривала его доводы насчет учения.
Вот в октябре 1909 года лег снег, начались занятия. А семилетняя Устинья, будто батрачка продолжала доить коров и чистить стойла.
1912 год. Сельская семья на току
Слыханное ли дело – дед Фирс Федорович пришел просить Петра отпустить дочку в церковно-приходскую школу.
Петр не ждал, что так повернется. Ответить отказом было трудно. Но отец твердо сказал, что не справляется без дочериной помощи на хозяйстве. А ведь в школу Устинье придется ходить каждый день.
Маленькая Тинка переживала больше всех. И не за учебу, а за то, что ее скромная особа стала причиной разлада между отцом и дедом. Появилось меж ними «тихое неудовольствие» – и не скоро исчезло.
Как я поняла позднее, к материнской родне, более сердечной и менее расчетливой, девочка Тинка была привязана сильнее, чем к отцовской.
За все годы в родительском доме мать и Баушка ни разу не наказали своих детей. Старшие только — только отчитают за проказу провинившуюся дочь, та разобидится, а мать или бабка, смотришь, её же и развеселят.
– Не вздыхай глубоко-о, не отдадим далеко, – насмешливо скажет Баушка. – Хоть за лыску, да близко! Хоть за бадожок (посох,трость), да на наш бережок!
Все обиды пройдут.
Бескорыстие и благочестие деда, юмор добрейшей неунывающей Баушки, нежность и женственность матери Авдотьи, – всё это осталось с Устиньей Петровной на ее долгую жизнь.
… Я только ресницами захлопала, когда однажды моя бабушка улыбаясь заявила, что болеет за хоккеиста Анатолия Фирсова!
Телевизор тогда еще никому не приелся. С любопытством сидела у экрана и баба Тина. Бабушка любила старые комедии – «Кубанские казаки» (даже «Каким ты был, таким остался» за работой напевала), «Трактористы», «Свадьба с приданым», «Свадьба в Малиновке». Уходила от экрана только когда начинались мультики.
– Это не по-настоящему, – говорила она.
И вдруг баба Тина как пацан болеет за наших хоккеистов!
– А почему именно Фирсов-то твой любимчик?, – заинтересовалась я симпатиями пожилой фанатки.
Оказывается, вот почему – этот хоккеист внешностью и фамилией напоминает ей любимого деда Фирса.
К слову!.. Если бы я в тот вечер не стала надоедать бабушке расспросами о своём пра-прадеде, – разве я узнала бы, что в начале века Фирс Федорович ходил паломником в Палестину?
Родня по матери
Для Тины важно было, что женщины из материнской родни умели создавать красоту скромного быта. Маленькую Тину вынянчила Бабушка, любимая, любящая, чуткая «баушка Марья». Подвижная, молодая, острая на язык крестьянка часто оставалась с внучками во время отъездов дочери и зятя.
1910 год. Изготовление полотна
Супруга набожного деда Фирса запомнилась Тине озорной и жизнерадостной. У Бабушки всегда было отличное настроение, она знала много сказок и смешных житейских историй и подтрунивала над близкими совсем не обидно. Она умудрялась шить или прясть, когда рассказывала сказки или самозабвенно распевала длинные красивые песни.
Мать Тины Авдотья Фирсовна Позднякова отличалась непрактичной страстью к роскошным комнатным растениям. Зимой на узких подоконниках стояли горшочки с комнатными лилиями, бальзамином-огоньком, «алоем», геранью, «ванькой мокрым» и другими цветами. Весной зацветающие прекрасные растения выставлялись к перилам высокого крыльца с двух сторон. Бывая в поездках с мужем, Авдотья вечно обменивалась черенками, семенами или рассадой с другими женщинами.
Кстати, по местным обычаям, полагалось не просить у подруги веточку или черенок, а крадучись отломить. А хозяйка будто бы не видит. Так же и Авдотьины соседки не обходили стороной ее зеленые сокровища – не спрашивая, отламывали зеленые черенки, укореняли. Считалось, что добытый таким способом цветок лучше приживется на новом месте.
Комнатные цветы тогда назывались «сады», «садИны». Они чаще всего попадались на глаза женщинам Поздняковского рода, когда те укладывали детей спать. Так вот, у бабы Тины вместе с обычным «баю-баюшки баю, не ложися на краю» в колыбельную для внука всегда входил другой куплет:
Ай, туты, туты, туты,
Не полИваны сады,
Вот уж Юрочка придет –
И прополет, и польет.
Не знаю, сама Устинья Петровна сочинила строчки про сады, или цветочница Авдотья, или песенница Баушка, или еще кто, но лучшего гимна самим себе наши женщины не придумали.
О чем говорит эта колыбельная? Во-первых, «что вижу, то пою». Цветы на окошках были зрелищем настолько обычным, что первыми попадались на глаза поющей хозяйке. И останавливаясь на любимых цветиках, женские глаза безотчетно отдыхали и радовались. После революции гераньки и бальзамины были объявлены мещанством, но женщины как заставляли окна цветами, так и продолжали заставлять. Только внешний вид и сорта стали другими.
Фикусы-розы. Начало 20 века
Посреди домашней суеты цветы требовали от замотанной хозяйки дополнительной работы, и она ее с удовольствием выполняла – лишь бы в ее избе жила красота. Напомню, что в избах в начале 20 века, как правило, была теснотища, окна – маленькими, а воду из колодца таскали в ведрах (бабушка Тина их называла бадьИ, бадЕйки). Если питьевой колодец находился далеко, баба вооружалась коромыслом, которое больно впивалось в плечи и в загривок, – знаю по себе.
«Не полИваны сады…» Вообще-то главное в нашей колыбельной – это любовная насмешка, замечательная самоирония сильного человека. Кроме поющей бабоньки, матери семейства, никто не прополет, не польет эти «садИны». Но ты баюкаешь ненаглядное дитя, в твоём доме хорошо цветам, – значит, ты счастливая.
Моя мама Поля, приезжавшая погостить в ухоженный дом старших Поздняковых в селе Глядянском, запомнила огромный царственный фикус с блестящими протертыми листьями. Величиной он был в пол-комнаты.
А у бабушки Тины (это уже я сама помню) в просторной чисто убранной горнице жила роскошная китайская роза – не куст, а настоящее деревце. Ветвистое, часто покрытое темно-бордовыми цветами дерево помещалось между комодом (он был светлый, а не темный, как у всех) и диваном. Бабушка устроила так, что роза отражалась в огромном зеркале, тоже в светлой раме.
Вдоль единственной дорожки бабушкиного сада в июне расцветала целая аллея тигровых лилий. Даже мне тогда было ясно, что места им отдано с избытком – ну, очень много. Зато царственные, терракотового цвета лилии превращали скромный сад-огород в уголок рая. Тем и запомнились – будь лилий меньше, выскользнули бы из памяти.
Тигровые лилии
… Авдотья Фирсовна Позднякова обожала своих четверых детей и их многочисленных чад. После гражданской войны дочери Устинья и Анютка были выданы замуж в Закоулово. Дочки наперебой зазывали матушку в гости. Молодым домовитым хозяйкам не терпелось заслужить похвалу матери, ощутить рядом с ней тепло родного дома, где они так привольно росли.
На Тоболе в то время была обустроена мощная паромная переправа. Летом через реку постоянно ходил паром, и из Глядянки можно было ездить в гости хоть каждую неделю. Но в среде старообрядцев, населявших всю округу, большим грехом считалось гостить (бездельничать) в разгар сезонных работ. Зимой – другое дело. Оба берега (на одном Глядянка, на другом Закоулово) соединял санный путь по речному льду. Самое время навестить замужних дочерей. И вот Авдотья Фирсовна, выбрав солнечный денек и попутчиков, появляется на деревенской улице.
– Помню, увидит ее мама из окна, – так раздетая, без шали выскочит за ворота встречать, – вспоминает мама Поля. – Не знает, куда усадить, чем попотчевать.
После шестидесяти бабушка Авдотья «росла к земле», как она говорила. Ходила, сгорбившись и опираясь на тросточку. Не роптала, всегда была очень ласковой и приятной в общении.
К концу жизни больших ее забот потребовало нездоровье супруга. Скорее всего, Петр Михайлович попросту надорвался от нескончаемой работы, хотя жалобы его были на желудок. Но это не вся правда.
Больше всего здоровья и жизненной силы отняло у Петра Михайловича исчезновение при неясных обстоятельствах единственного и долгожданного сына Матвея.
«И проводил меня с крыльца». Песенница Баушка
В незапамятные времена от песенницы Баушки Марьи маленькая Тина переняла горькую народную балладу «Когда б имел златые горы». Баушка иногда тихонько напевала ее за шитьем, а другие жители Глядянки (в том числе мужчины) – в застольях. Когда пришли колхозы, женщины пели «Златые горы» и другие песни, пока добирались к полю на ребристых бричках и на телегах, на которые для мягкости бросали мешки.
О, вечный сюжет всех времен и народов! – Грустная история соблазненной и несправедливо изгнанной юной любовницы до того цепляла и бередила женские сердца, что через много десятилетий эта песня была фантастически «заболтана», «запета» — как заигранная пластинка. (Та же самая несправедливая судьба выпала прекрасной песне «Шумел камыш». Ничего странного, такова история всех любимых шлягеров!).
Моя бабушка Устинья, знавшая «Златые горы» с младенчества, мурлыкала этот жестокий романс, не вдумываясь — за шитьем или за уборкой, и всегда почему-то второй куплет:
Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу –
Тогда свободно и счастливо
С молитвой мы пойдем к венцу.
Меня, любопытную внучку, эти слишком благонамеренные слова ни разу не подтолкнули узнать, что же там было дальше. (Ясное дело, свадьба.)
Слова песни в одно ухо влетали, а в другое вылетали, и вот еще по какой причине. В шестидесятые годы слова «свобода» и «счастье», прекрасные по смыслу, автоматически увязывались для многих из нас с другими – маршевыми — песнями:
«Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
Братский союз и свобода –
Вот наш девиз боевой!»
Или:
«Будет людям счастье,
Счастье на века!
У Советской власти
Сила велика.»
Примерно в таком русле я и уразумела тогда эти слова – «свободно и счастливо». А песни не лирические, а идеологические десятилетним девочкам не очень-то интересны.
Как-то раз я сидела за уроками и мельком услышала по радио (приемник в нашем доме не выключался) неожиданное окончание бабушкиного романса:
Оставь, Мария, эти стены,
Я провожу тебя с крыльца.
Ничего себе концовочка! Это после венчания жена позволила «проводить себя с крыльца»? На бытовом языке – вытолкать взашей? Впервые слова народной песни показались мне прямо-таки интригующими.
Бабушка была в Куртамыше. Мама «Златые горы» ни разу не дослушала до конца. И вот для меня наступило время азартной охоты за первоначальным текстом. Увы, это время совпало с периодом, когда из-за «запетости» «Златые горы» уже редко исполняли солисты. Эта трогательная баллада была отнесена к песням пьяных застолий и пиликающих гармошек.
А до творчества братьев Заволокиных и клубов гармонистов было еще очень, очень далеко. И до Интернета этак лет сорок.
В день, когда я впервые услышала «Златые горы» целиком, я почти поняла, почему целое столетие трогательная мелодия и старинный слог не надоедали женщинам.
Каждая из них хотя бы раз в жизни чувствовала себя преданной.
Когда б имел златые горы
русская народная песня
Когда б имел златые горы
И реки, полные вина, —
Все отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.
Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу –
Тогда свободно и счастливо
С молитвой мы пойдем к венцу.
Не раз, Мария, твою руку
Просил я у отца, не раз,
Но он не понял мою муку
И мне жестокий дал отказ.
Умчались мы в страну чужую,
А через год он изменил.
Забыл он клятву роковую,
Когда другую полюбил.
А мне сказал, стыдясь измены:
«Ступай обратно в дом отца.
Оставь, Мария, эти стены» —
И проводил меня с крыльца.
Это канонический вариант баллады. Некоторые исполнители добавляют, что коварный обольститель пытался откупиться от девушки богато украшенным конем («уздечка, хлыстик золотые, седельце шито жемчугом»). Другие обязательно поют жалостливый куплет про то, что перед бегством Мария перекрестилась на храм, «в слезах взглянув на дом родной».
То есть песню 100 лет не просто пели – ее продолжали сочинять.
Но всё второстепенное исчезло из стихов под прессом времени.
Первый критик. Начало шестидесятых
Мне тогда было лет десять, но я уже прочла «Ромео и Джульетту» и по глупости тоже решила дописать народную песню.
Мне очень нравилась трагическая «Степь до степь кругом». Когда ее транслировали по радио, бабушка Тина не подпевала, а просто откладывала работу в сторону, снимала очки и молча слушала. И вот в один прекрасный день после печальных слов «но любовь ее я с собой унес» у меня сами собой сложились еще три-четыре куплета:
Завывал мороз,
Заметал следы,
А ямщик уснул
Посреди степи.
Кони умные
Путь домой нашли,
Тело мертвое
К дому привезли.
Плачет батюшка,
Плачет матушка,
Жалко, жалко им
Сына-ямщика.
Что сказала жена, я уже теперь подзабыла, но под занавес «второй серии» в моем варианте баллады страдающая ямщикова вдова, как прекрасная Джульетта, не захотела жить без любимого. Она, бедняжечка,
улыбнулася,
перекрестилася,
потом яд взяла
и отравилася.
Я тут же с волнением пропела новые куплеты бабушке – и немедленно пожалела об этом.
Бабушка опустила голову, очки сползли на средину носа, и она растерянно смотрела на меня поверх очков. И не говорила ни слова. Но брови бабушки ползли вверх. Это означало не гнев, нет. Это было то самое тихое неудовольствие, которое вправе себе позволить самый добродушный человек.
– Наверное, «мороз заметал следы» – как-то не звучит… – я не притормозила и с вдохновением пыталась доработать свой вариант концовки. Но интуитивно поняла, что бабушку поэтические тонкости не волнуют. Только смысл! Я озадаченно спросила:
– Что не так?
Да, бабушка стихов не касалась. Она только сказала, что «никто крещеный» никогда не станет самоубийцей. Лишить себя жизни – неискупимый грех. Что бы ни произошло, – надо жить, и всё.
Баба Тина вообще тогда меня удивила. Всегда осторожная со словами, она вдруг вспомнила грубую пацанью дразнилку «любовь до гроба — дураки оба». В общем, критика получилась очень отрезвляющая. Похоже, бабушка боялась, что моя жалкая поделка тоже когда-нибудь прозвучит по радио! Тогда (не исключено) все красны девки поголовно начнут травиться от своих несчастных любовных или житейских историй – и я, конечно, в их числе.
Или когда-то она услышала проповедь о «грехе уныния» и о неприятии православными самоубийства. Вряд ли об этом говорил приходской священник – скорее, дед Фирс или Баушка.
…Я потом уж поняла, что если уж понравилась грустная народная песня, — надо было действовать иначе. Сочинить новую, веселую.
Как раз в шестидесятые появился и свел всех с ума «Ой, мороз — мороз». Песня неслась из всех окон, со сцены, из радиоприемников. Говорят, мелодия и слова родились в недрах самодеятельной сцены, песня вовсе не столетняя, и автор слов и мелодии – обычная женщина.
Тот же самый пейзаж – степь, мороз, кони! Но человек здесь сильный, удачливый, фартовый и всё побеждает:
«Я вернусь домой
На закате дня,
Обниму жену,
Напою коня».
Постскриптум. А кто испошлил эту песню – тот поганец.
Буквы на речном песке
…Чуть не забыла окончание истории с церковно-приходской школой! Через два года после размолвки деда и отца из-за ее учебы девятилетняя Устинья сама выучилась читать и писать. Читать, конечно, научилась от деда, а писать — не от взрослых, а от младших сестер! На них отец особых надежд не возлагал. Поэтому Степанида с Анюткой, нарядившись в новые полушубочки и пуховые платки, наперегонки мчались на занятия.
Конечно же, девочке-Тинке тоже хотелось ходить в школу! Она не раз говорила мне об этом.
Старший ребенок у Поздняковых рос существом кротким и набожным. С младенчества Тина молилась за своих близких и никогда не держала на них обид. Не завидовала, не повышала голоса. Если сестры заучивали наизусть строчки Кольцова или Некрасова, Устинья запоминала их с первого раза – и помогала выучить стих Степаниде и Анютке.
Помню, уже на девятом десятке бабушка декламировала «румяной зарею покрылся восток», «бабы граблями рядами ходят, сено шевеля» и с детским подъемом – про Жучку удалую.
Считала в уме очень быстро.
До старости она читала по складам, а писала нам письма с ошибками и без знаков препинания, но очень подробно. Знаю, что в начале века в ходу были письмовники, — шаблоны, которых рекомендовалось придерживаться, сочиняя письмо. Первые две фразы у бабушки всегда писались по тому неведомому нам образцу:
«Здравствуйте, дорогие наши родные Поля, Ира, Игорек! С приветом к вам мама и бабушка Тина, Гриша, Нина, Вова и Юра». Потом шло изложение последних событий и вопросы о нашем житье-бытье.
Тетрадные листы и карандаши (потом авторучки) во все времена хранились в ее доме на самом почетном месте, потому что когда-то они были бы для маленькой Тинки редкостным сокровищем. Она мне говорила, что в детстве училась писать буквы на запотевших стеклах и на мокром речном песке.
Праведник Фирс и вольнодумец Петр. 1910-1015 годы.
У моей матери Полины Никифоровны до сих пор висит в красном углу икона Богоматери в черном от времени деревянном киоте. Киотом называется сделанный по размерам именно этой иконы футляр, с застеклённой дверцей. Киот устанавливается вертикально на божнице.
Пространство между иконой и стеклом многие украшали бумажными цветами, но в нашем роду это не было принято.
Перед началом Рождественского поста 1919 года иконой Богородицы с младенцем Устиньины родители, Петр и Авдотья Поздняковы, благословили молодых – Устинью и Никифора.
По семейной легенде, деревянный киот для иконы изготовил отец Авдотьи – мой прапрадед Фирс Федорович. К 21 веку киот стал совершенно черным от времени. Работа, могу сказать, тонкая, ювелирная. Стекло сидит в дереве как родное, крохотный крючочек не перекосился за столько лет и закрывает киот крепко-накрепко. Если бы не киот, вряд ли икона оставалась бы в хорошей сохранности почти сто лет. Кстати, недавно я заметила, что киот не имеет строго прямоугольной формы – вверху над образом Богородицы с младенцем устроен плавный, почти незаметный «навес», «козырек», немного похожий на корону.
По рассказам бабушки, Фирс Федорович был одним из самых уважаемых стариков в Глядянке. Обладая отменным здоровьем и немалой силой, он все зрелые годы работал за троих на своих землях. Но за особым богатством не гнался. Не жалея сил, по первой просьбе помогал семьям детей и соседям.
Главное просветление души Фирс находил в церкви. Иконы и многочисленные духовные книги к сорока годам заполнили его жилище.
Зять его Петр Поздняков не нарушал главных требований церкви, но и чрезмерно не усердствовал в молитвах. Бывали дни религиозных праздников, когда трудиться запрещалось, а он решительно выводил семейство и проворного помощника Егорушку после в поле – после полудня. При этом он ссылался на своего отца Михаила:
– Тятя говорил, никакой это не грех. Грех, если земля пересыхает или колос не убран. Какой тут грех, если труды наши после полудня?
1905 год. Обработка луба на ободья сита
Общественное мнение в Глядянке придерживалось старозаветных канонов. Не нарушать дедовских обычаев старались и обычные крестьяне и уж тем более потомки раскольников, кержаков, убежавших от церковной реформы в Сибирь еще в восемнадцатом веке. Характеры местных жителей выплавились в непрерывной борьбе за землю (с киргиз-кайсаками) и за духовную свободу (с властями). Когда ретивый церковный владыка Сильвестр попробовал запретить им селиться отдельно и стал насильно сгонять в деревни, наступило страшное время г а р е й . Люди запирались в избах с детьми и стариками, поджигали свои дома и сгорали в них заживо! Они добровольно выбирали смерть. Предпочитали корчиться от мук в огне, но не подчиниться.
Поэтому слово сибиряк означает свободный. В Сибири и крепостного права-то никогда не знали.
В деревне Долговке, куда ездил по делам Петр Михайлович, упорствующих старообрядцев было половина жителей (на начало 20 века).
В деревне Ярки до революции потомков раскольников (их деды платили две дани и назывались двоеданами) было еще больше. Мама училась здесь в младших классах во время войны. Квартирная хозяйка приходилась Устинье Петровне дальней родней – и это тоже была семья двоедан.
Второй брак бабушкиной сестры Анны, Анютки, был браком со старообрядцем, потомком самых праведных из раскольников…
Кстати, по документам, только Петр Третий выступил защитником старообрядцев. Поэтому потомки первых раскольников ненавидели Екатерину Великую и поддерживали псевдо-Петра, Пугачева, который на удивление хорошо знал их быт. И как ни странно, знал, что именно им надо обещать.
Петр Михайлович со своей манией бесконечного труда все же не хотел вступать в противоречие с общим настроем на строгое соблюдение прадедовских праздников. И по примеру хватких мужиков из соседних деревень он придумал устраивать п О м о ч и . Вот надо поставить новый овин, а в его семье (что сделаешь, так Богу угодно) — одни девки. Солидный хозяин Петр Михайлович бросает клич соседям, дальним родичам – те собираются в воскресенье утром и здорово работают под его умелым руководством. Трудятся бесплатно – взаимопомощь! Общаются, подтрунивают друг над другом, между делом обмениваются хозяйским опытом. (Из подслушанных тогда у «больших» разговоров Тина на десятилетия запомнила еретическую тогда для нее, грубую и прочную крестьянскую заповедь – «навозом Господа Бога обманешь». Удобряй поле, ухаживай за всходами – и будет тебе урожай).
Тем временем домовитая Авдотья Фирсовна, расторопная Баушка и начинающая хозяйка Устинья готовят сказочный пир на окончание п О м о ч и. Накануне женщины раздобывали огромное количество свежей рыбы, выловленной в Тоболе, и пекли пироги, фаршировали щук, отваривали. Стряпали ватрушки, охлаждали квасок и бражку, разваривали кашу. Отец наполнял хмельным напитком высокие стеклянные четверти и кувшины.
Ранним вечером умытые после работы уставшие мужики (человек 10-12) рассаживаются за столом. Подходят их хозяюшки, детки – и начинается многочасовое застолье. Прийти на п о м о ч ь к Позднякову в Глядянке никто не отказывался.
Первому Петр Михайлович кланялся сельскому священнику – надо было испросить благословения. Покорнейше просил разделить с односельчанами хлеб-соль в день большого праздника.
Фраза «одни девки в семье» произносилась в те годы моим прадедом как алиби-оправдание настолько часто, что через полвека бабушка Устинья повторяла мне эти слова на автомате. Даже с теми же жалостливыми интонациями! Я была еще лет шести, а уже знала не из учебников, а от бабушки и мамы, что «в царской России на девочек землю не давали» – и возмущалась такой несправедливостью.
…После многих часов работы молодой вольнодумец Поздняков с хитрецой поучал своего младшего напарника Егора:
– Бог-то Бог, а и сам не будь плох!
Или, наверное, ему было ближе более благочестивое изложение этого мнения:
– Господи, помоги, а ты, раба, не лежи.
Но мы же о Фирсе Федоровиче!
Для Фирса Федоровича жизненные правила зятя представлялись грубоватыми и приземленными, хотя поучать кого-либо он бы никогда не стал. У каждого свой путь к истине.
Свое духовное образование.
Не растеряв сил, но будучи уже умудренным жизнью, Фирс Федорович в начале десятых годов 20 века отправился паломником в Палестину.
В один прекрасный день, беседуя после церковной службы с чьим-то гостем, он вдруг узнал, что тысячи людей уже побывали в Святой земле. Ничего несбыточного в паломничестве нет, говорил новый знакомый. Едут даже женщины и люди небогатые. Мало того, совершают паломничество даже совершенно неграмотные крестьяне, но в пути им помогают добрые люди.
О своей мечте Фирс Федорович долго никому не рассказывал. Однако он разными путями узнавал – в какие русские края надо двинуться, чтобы оказаться у нужного морского города? Сколько может стоить билет на пароход?
Но самым главным вопросом было – на какой срок он покидает дом и кого просить поддержать домашних.
Хождение Фирса Федоровича в Святую землю. Десятые годы 20 века
Об этом странствии я узнала от бабы Тины в средине шестидесятых годов, причем рассказ ее был скупым и коротким.
10-е годы 20-го века. Русские паломники в Иерусалиме.
Самое примечательное, что своей дочке, щебетушке-говорушке Полечке, она в тридцатые годы вообще о деде-богомольце не рассказала!
Устинья Петровна отличалась предусмотрительностью и заботой о близких. Как личную драму она переживала гонения на церковь, когда в округе сбрасывали колокола и превращали храмы в склады и мастерские. Вера ушла в семьи. В мирУ на веру началось поношенье. Зачем всю семью ставить под удар?
Умная девочка Тина слышала о паломничестве в Палестину от самого деда, а значит, странствие состоялось примерно около 1910-1912 годов.
… Научившись читать, я уже не отрывалась от рассказов о природе, романов и от книг по истории – в том числе по истории религии. Когда я в первый раз прочла, что Вербное воскресение – это праздник входа Спасителя в Иерусалим, я тут же с воодушевлением пересказала бабушке всё прочитанное.
– А знаешь, почему символ праздника верба?, – говорила я. – Да потому что народ устилал Ему путь своими одеждами, цветами и пальмовыми листьями! А в России за неделю до Пасхи только верба расцветает.
Она слабо улыбалась (может, ждала от меня новых каверз?) и еле заметно кивнула. И я четко помню, что сначала было моё увлечение историей религии, эти краткие пересказы евангелистов для бабушки, — и только потом она стала мало-помалу рассказывать о Фирсе Федоровиче, о его хождении через всю Россию и о плавании по теплому морю. То есть бабушка сначала удостоверилась, что это может быть мне интересно, что я не буду воспринимать её любимого деда как «отсталый элемент».
По многим свидетельствам, в те годы на праздник Пасхи в Иерусалиме собиралось до 10 тысяч русских. При этом нынешних сверхскоростей в начале 20 века и представить себе никто не мог. Паломничество было не трехдневной поездкой, а путешествием на 6-10 месяцев или на год. Люди отправлялись в Иерусалим в средине сентября. А возвращались домой паломники самое раннее только в мае следующего года!
Итак, русские богомольцы доезжали или доходили пешком до Одессы. Здесь была первая длительная остановка на их пути. Как всякие путешественники, паломники долгое время выправляли себе загранпаспорта и ждали, пока на рейс будут проданы все билеты.
Морская часть пути длилась две недели! Верующие укрепляли свой дух постом, страдали от морской болезни и пели псалмы, если корабль попадал в шторм. Все авторы, оставившие воспоминания о русских в Иерусалиме, подчеркивают, что почти 100 процентов паломников были крестьянами.
Прибывшие на спасительный берег двигались до порта Яффы (в 1950 году Яффа и Тель-Авив соединились). Прямо у корабля их встречали проводники, сопровождавшие верующих на Русское подворьее в Иерусалиме. Здесь были открытые бараки для проживания бедняков и отдельные комнаты для более состоятельных людей. Благодаря заботам русской миссии на Русском подворье действовали церковь и больница, столовые и бани.
В последующие недели и месяцы паломники каждый день преодолевали километры пути до Назарета, Вифлиема, горы Синай, до Голгофы, реки Иордан и многих других святых мест, связанных с земным путем Иисуса Христа. Русские молились и стремились узнать о Святой земле как можно больше.
В храмах Иерусалима паломники встречали Рождество. При этом богослужение велось для них на русском языке. Не переставая странствовать и молиться в разных уголках Палестины, русские держали Великий пост. Венцом паломничества была СтрастнАя неделя в городе, где принял свой крест Христос. А пасхальное богослужение для паломников становилось часами счастья, о котором они не забывали до конца своих дней – Христос воскрес!
…Только после Пасхи русские задумывались о возвращении домой. Одних ждали дела. Другие уезжать не хотели и решались без устали странствовать по святым местам Палестины, чтобы встретить здесь свой последний час.
В средине мая у нас цвела сирень. А в Яффе, рассказывал Фирс Федорович, тогда установилась жара, и только утренние часы выдавались свежими.
В один из таких дней крестьянин из южно-сибирской деревни Глядянки по имени Фирс и его спутники в последний раз поцеловали Святую землю и ступили на уходящую из-под ног корабельную палубу. Через две недели пути паломники были снова в знакомой Одессе.
От Одессы до Зауралья, казалось странникам, можно было и «на крылушках улететь».
Продолжение следует
Главное фото: Константин Маковский. Дети, бегущие от грозы. Именно такой я представляла себе Тину