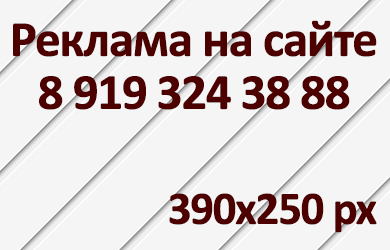Под впечатлениями от встреч с участниками поисковых экспедиций на Ленинградском фронте появился этот рассказ. Это частный случай в истории огромной страны и в истории Великой войны.
Сергей Костромин, командир челябинского поискового отряда, убежден – в 2010 году была самая памятная вахта. В пяти километрах от реки Луги в небольшом лесу поисковики обнаружили немецкий блиндаж. Вскрыли. Нашли останки советских солдат. Обследуя соседнюю территорию, наткнулись на куски шинели рядового медицинской службы. Среди остатков шинельного сукна лежал серебряный портсигар, в котором хорошо сохранились фотографии молодого солдата и девочки-подростка.
Но еще большей удачей был треугольник солдатского письма с указанием населенного пункта и именем той, кому письмо предназначалось. Ребята из поискового отряда понимали, через много лет редко удается найти родственников погибшего на фронте молодого солдата. Но в этот раз…
Следопыты готовы были вернуться в город, когда встретили очень пожилого мужчину, оказавшегося коренным жителем деревни. Он долго смотрел на фотографии, припоминал разные истории, называл фамилии – но ни одна не совпадала с той, что сохранилась на адресе письма. Поблагодарив старичка, ребята собирались уходить, когда он вскинул руки и обхватил совершенно лысую голову руками.
– Голова моя стоеросовая, – дедушка бодро поднялся со скамьи, – Да как же я так? Пойдемте, мои дорогие! Пойдемте! Это же Танька! Ах ты, будь ты неладный. Чуть вас домой не спровадил.
Дед так торопился в другой конец улицы, что молодые парни и девушки едва поспевали за ним. Он широко распахнул ворота и заявил показавшейся на крыльце немолодой женщине:
– Полина, накрывай на стол. Я к Татьяне гостей веду…
Бабушка Таня некоторое время стеснялась и даже кокетничала, польщенная столь обширным вниманием. Пожилая дочь собрала на стол домашнюю выпечку, заварила свежий чай, достала настоящего деревенского варенья и вместе с гостями пыталась заставить старушку повспоминать прошлое. Как-то ненароком дочь коснулась сокровенного.
– Мама, а ты почему так поздно замуж вышла? В двадцать два в деревне считали старухой.
– Дожидалась. В сорок седьмом Усовы вернулись. В пятидесятом Баландины. Как Баландины пришли, так я уж все меньше надеялась. Пять годов большой срок.
– А ждала-то кого?
– Паренек у нас был. Сказать, что баской шибко, так нет. Мне всего тринадцать годов было, а я в ем души не чаяла. Не знаю, понимал ли он, что я его люблю? Наверное, нет. А мне сказать-то нельзя было. Малая я девка была. Так я, как его на фронт забрали, загадала, что ждать его стану.
– Кого же это ты, окромя нашего папки ждать собиралась?
– А чего ваш папка? Ваш папка меня шибко любил. И я уж к тому времени больше восьми лет невенчанной вдовой прожила. Он приласкал, душа-то у меня оттаяла. А теперь уж чего таить? Нет уж никого. И я последние годки доживаю. Ранее-то паренек этот мне часто снился. А потом все реже и реже. Теперь, когда и загадаю на ночь. Только далеко он уже. Как пропал без весточки, так и с концами. А вы, ребятки, к нам приехали. Вы про него знаете что-то?
– Мы, Татьяна Васильевна, проверяем информацию. Вы нам расскажите про те далекие времена, что вам известно… Это очень важно… – Сергей Костромин опасался, что наша новая знакомая может быть совсем не та, кому было написано погибшим солдатом письмо.
Бабушка Таня совсем доверилась. Она поправила платок, отодвинула чашку с недопитым чаем и начала свою повесть.
Порфишка рос доходягой. Мать воспитывала его одна. Отец пропал не то в двадцать пятом, не то в двадцать седьмом году, стараясь найти лучшей доли, чем жизнь в деревне. Несладкая тогда жизнь-то была.
С единственным сынишкой мать была чаще ласкова, и только приговаривала: «Фирюшка, ты на людей не гляди. В перву очередь подумай: сделаю я так, а мамоньке скажут. Как у нее сердечушко переживет?» Но когда сердилась, кричала высоким заливистым голосом: «Порфишка! Чего ж я тебя в артель не сдала?» Но Дуня мальчишку Порфишкой кликала редко, а вот деревенские как будто другого имени и не знали.
В тринадцать лет паренька определили на ферму, ходить за лошадями. Председателю колхоза сказали, что честнее и добросовестней во всей округе пастуха не найти. Так Фирюшка попал в колхоз. Уматывался он страшно. Приходил домой после колхозного пастбища и валился с ног.
– Фирюшка, сможешь ли огородец скопать? Садить репу надо да и картовь, а у нас лебеда взошла. Вона, у Смолиных, хорошо! Как вышли ордой и айда, пошел. Рази они без картови на зиму останутся. А мы? Мы опять голодовать будем, – причитала мать из кути, перетирая на ручных жерновах пригоршню ржи.
– Ухайдакался, я мамонька. Силов нет. Бурко с табуна опять убег на ту сторону реки. А вода холодная. Я сунулся было поплыть, да страшно, судорогой еще сведет. Пришлось через мост идтить. А это пять верст с гаком до мосту, да обратно к нашей стороне. А потом с Буркой назад. Я немноженько, мамонька, подремлю. А потом пойду огород копать.
Но засыпал Порфишка беспробудным сном. И мать не будила его, сама возилась в огороде до сумерек. Утром мальчишка просыпался и казнил себя за лень. Мать перед работой кормила его тюрей и лепешкой, наливала в казенную поллитровку молока, обнимала и оправляла на пастбище.
В дни, когда лошадей разбирали, и караулить было некого, Порфишка бежал в кузню к Пантелею, искусному деревенскому кузнецу и охочему до всяких механических штуковин человеку. Лошадей с жеребятами и годовиков Порфишке не доверяли. Там проворные мужики и бабы работали. Смолина Софья за жеребятами ходила и с кобылами жеребыми цацкалась. Порфишку к себе не брала. А что тогда малому делать? Только и бежать туда, где не обижают. К кузнецу Пантелею.
– Дядя Пантелей, как ты думаешь, ежели мне в город пойти учиться, то там можно в такую школу поступить, где бы научили механического коня сделать или, хотя бы, лопату самокопающую? Жалко мне мамоньку, надрывается. А я порой и ног не волочу.
–Можно! – утвердительно кивал Пантелей, закуривал и присаживался на большой пень. – Чего уж про лопату не знаю, а за коня скажу. Видал. «Фордзон-Путиловец» конь называется. В брюхе у него огонь горит, потому что он керосин пьёт. Он огнем пышет и пашет. А ты на стуле на нем сидишь и только штурвал в разные стороны поворачиваешь. Вроде, как за вожжи коня дергаешь.
И Пантелей рассказывал всякие подробности про механического коня. Повторял по много раз и никогда не отказывался вместе с собеседником подивиться, до чего же люди додумались – тракторы делать и к ним керосин гнать.
– Нам бы тако!
– Будет, Порфишка, и нам такое. Дай срок. Только помочь этому надо. Вот ты почему бездельничаешь?
– Так у меня коней разобрали.
– Коней у него разобрали. А моя Глашка на огородах. Побег бы на огороды, помог.
– Дядя Пантелей, я хочу, как ты. По железному делу…
– Не учен пока. Какое из тебя железное дело, когда ты два плюс два умножить на два, сосчитать не можешь.
Порфишка напрягал весь свой ум, потому что в начальной школе, в которой проучился он целых два года, про два плюс два говорили, но решить примера никак не мог. Хотелось припасть к технике, а с математикой не ладилось. Писать мальчишка выучился красиво, читал легко. Сказки с таким выражением прочитывал, что вокруг него вся ребятня собиралась, слушала. А иногда просила:
–Фирька, а ты в лицах покажи. И голос меняй за каждого, чтобы интереснее было.
Порфишка выполнял просьбы. Малышня его любила. А вот со взрослыми не повезло. Взрослые за некоторую задумчивость считали Порфишку малахольным. От этого на парнишку накатывала какая-то несказанная грусть, и он шел на огороды. На огородах работала Глашка.
Глашка стояла в центре своего участка с тетрадкой в руках и командовала младшими девчонками, копавшими, нарезавшими и боронившими гряды. Глашка была видная. Порфишка уже во сне несколько раз сладостно страдал, пытаясь обнимать и целовать Глашку. А та все смеялась в ответ и задирала подол выше колен.
– Здрасьти вам, Глафира Пантелевна!
– Привет! Чего пялишься? Пришел работать, так работай. Пишу тебе в список.
Рыжая, усыпанная конопушками, как молоденькая волнушка, Танька Смолина, перекинув через плечо коромысло, в бадьях носила на гряды перегной. Парень пошел за ней.
–Порфишка, ты чего идешь? На Глашку пришел посмотреть?
– Помогать.
– Так бери ведры. В пригоршнях таскать будешь?
– Не. Ты нагребай, а я таскать буду. А то тебе чижало поди-кось.
– Чи-жа-ло! – передразнила Танька, но ведра отдала, – Фиря, ты же книжки любишь, а говоришь, как деревенский.
– Так сподручнее. Так все меня за своего считают. А ежели я по ученому говорить стану, будут думать, что я задаюсь.
– Фи! Наоборот. Должно наступить такое время, когда все будут как ученые.
– Ну, как наступит, так я сразу буду говорить, как в книжках. Там, правда, иногда так скучно и непонятно, что не приведи бог.
– Бога нет.
– Не знаю. Я про него тоже книжку читал. Еще в царевой грамоте.
– И чо там написано?
– Не понял я. Он, вроде, сначала злой. А другой – добрый. Как на земле. С плохими он злой. А с простыми людьми он спасать всех хочет.
До захода солнца таскал Порфишка перегной, перевыполнив с Танькой норму на двоих на сто двенадцать процентов. Глашка все записала в тетрадку и похвалила напарников. Он хотел было потащиться за расчетчицей, но та со стана помахала рукой молодому бригадиру и пошла с ним. К паре подвалили ребята из пахатной бригады, посмеялись над Порфишкой, что он единственный, как девка, на огородах навоз месит. Порфишка поплелся домой один. Но по дороге к нему пристала Танька.
Парень очнулся от окутавшего его тумана только когда свернули с Танькой в родной проулок. На огороде копошилась Евдокия, Порфишкина мать, а он стоял и молчал, крепко сжимая в ладонях старые суковатые палки тальникового плетня. Танька тихонько проговорила:
–Ты, если не будет коней, и завтра приходи. Мне с тобой нравится. – И ушла.
Мать оставила огород и пошла в ограду. Порфишка перемахнул через плетень, взялся копать. Но время было уж совсем позднее. Решил в дом не ходить, чтобы не соблазняться едой. Залез на сеновал над хлевом. Улегся. Долго смотрел в темноту, слушал, как вздыхала корова, как шуршали по углам мыши. Думал.
Утром чуть свет Порфишка прибежал на конный двор, перебрал несколько сабанов, нашел какой подручнее и полегче, взвалил на спину и потащил в свой огород.
Солнце уж вышло из-за леса, а он все возился с сабаном, прилаживал жердь и накладывал в корзину камней, чтобы приспособление поглубже уходило в землю. Принимался несколько раз таскать сабан по огороду. Кое-как наладился. Вроде, дело пошло. Профишка упирался изо-всех сил, рвал жилы и волок за собой сабан, отворачивающий на сторону сырую парную землю. В животе урчало. Казалось, потроха с каждым усилием все крепче и крепче прилипают к позвоночнику. Но так было радостно, когда он оглядывался на пройденные по своему огороду вспаханные метры. Обернувшись в очередной раз, пахарь увидел стоявшего у плетня председателя колхоза с несколькими бабами-активистками, и понял, что солнце давно ушло в зенит, что в колхозе идет рабочий день, а его, Порфишку, и стащенный им сабан, обыскались.
На собрании колхозников только Пантелей и смог защитить юного изобретателя от напористых и дурных голов, посчитавших пацана за врага колхозного строя. Сказал, что в кузню возьмет. Но тут на принцип пошел председатель: или водовозом на все лето, или пусть в милиции разбираются, почему парень в колхозе инвентарь для своих нужд украл.
Так стал Порфишка водовозом. Возил воду на парники и огороды все лето на худой старой кобыле, которая после третьей ходки от реки без посторонней помощи бочку вывезти не могла. Порфишка бросал вожжи, пропускал телегу, упирался в задний борт и, сколько было сил, толкал в гору. На огороде лошадь фыркала, мотала головой и кланялась подходившему к ней парню, как будто благодарила его за подмогу. Он трепал её по морде, отламывал в кармане от краюхи кусок и кормил с ладони. Лошадь мусолила во рту корку, а в углах глаз старой клячи появлялись слезы.
На огородах разливать воду в корыта и бочки помогала Танька. А Глашка с водовозом якшаться не хотела. Не успевал Профишка и с парнями поколготиться. Они в обеденный перерыв лезли в воду, купались, звали его. А он побаивался не выполнить нормы, отнекивался.
– Ну, трус ты, Порфишка. Да чего тебе сделают, ежели ты на бочку меньше воды привезешь? Скажи, колесо слетело.
– Не. Мамоньке скажут, что я вру. Я уж опосля.
– А за подсолнушным семем пойдешь? За Крутым Логом подсолнухи нынче во какие. Пять шляп ять шляп – мешок.
– А как поймают? Скажут мамоньке, что я вор.
И так не соглашался Порфишка на любую проказу парней.
После лета председатель милости не проявил. Оставил Порфишку в водовозах. В любую погоду, в снег, в пургу, в стужу, выезжал Порфирий на озерко, чтобы навозить воды в скотники и напоить скотину. Как-то быстро закрепилось за ним звание водовоза. И выходных дней, чтобы побывать лишний раз в кузнице или на мехдворе, у Порфишки уже не было.
В то лето в самую горячую пору начала первой прополки слег Пантелей. А в половине борон зубья повыбиты. Пригласили в кузню чужака. А тот без подручных работать отказывался. Поставили Николая Баландина, он от радости запировал.
И пришлось позвать председателю Порфишку в помощники к заезжему кузнецу.
Вечером новоиспеченный молотобоец будто нарочно завернул в лавку, вывалил на прилавок мелочь и велел продавщице завернуть пряников:
– Мамоньку угощу!
– С чего такое богатство, Порфиша? – спросила неугомонная Софья Смолина.
– Так как же. Председатель-то меня в кузню перевел. Я сегодня уже за молотобойца работал. А тут глядишь, поправится дядя Пантелей, так меня учить станет. И буду я у вас, бабы, первым парнем на деревне. За кузнеца-то всякая пойдет, а?
– Коне-ешно, Порфиша! Коне-ешно! За кузнецом и бабе красно. А чо водовоз-то. Только хвост коня и видит. Давай, Порфиша, учись у дяди Пантелея. Он тебя выучит, так за тебя и Гланьку свою отдаст.
Недели три проработал Порфирий молотобойцем. А потом, когда выздоровел Пантелей, председатель снова Порфишку перевел в водовозы. В сельпо бабы не преминули над парнем посмеяться. И только стоявшая в очереди за керосином Танька вступилась:
– Дуры вы, бабы, хотя и все мне в матери годитесь. Сколько мы на огородах с мужиками маялись. То бочка потечет, то колесо сломается, то сам водовоз напьется, ни уха ни рыла. А Порфишка… Он все по-честному. И привезет, и сам воду разольет. Он в час, если с озерка, по пять ходок делает. А если с Миасса, то по четыре. Там в угор подниматься надо.
– Да Бог с ним. Только хвалился твой Порфишка, что кузнецом станет. Уж невесту подбирать стал. Гляди, Танька, выбьется из водовозов, не видать тебе парня, как своих ушей. Пока Порфишка воду возит, он твой!
– И ничего он не мой, – буркнула и зарделась.
В июньское воскресенье в колхозе дали первый выходной. На конюшне сказали, что сегодня будет день советской молодежи, и вечером в клубе будут танцы. Порфишка, когда про танцы услыхал, обрадовался, глаза у него вспыхнули. Но тут же и потухли. На танцы идти было не в чем – приличных башмаков у Порфишки не было. А с босым разве Глафира Пантелеевна танцевать пойдет?
Пошел на речку. В деревне стих дневной гомон. Только собаки перекликались да отпевали вечернюю зарю петухи. Гармониста Федора Уросова посадили на крыльце, и Порфишке было слышно, как он наигрывал подгорную, а потом кадриль. Но вдруг гармонь стихла.
Неожиданно на берегу появилась Танька Смолина.
– Фирька, чего сидишь? Айда в клуб. Говорят, сейчас заявление будут говорить.
Народ вокруг клубной избы толкался разный: молодежь, и женатые, девки и бабы, даже старики приперлись. Мужики кучками курили, о чем-то неохотно переговаривались. В зале яблоку негде было упасть. За столом, задрапированным кумачом, председатель, парторг и участковый в форме.
– Товарищи! Хочу сделать чрезвычайно важное сообщение! – председатель, так и не сев на стул, вышел к краю сцены. – Сегодня, 22 июня, без объявления войны и претензий к Советскому Союзу, Германия напала на нашу страну. Товарищ Молотов сегодня объявил… Война это, товарищи…
Гул покатился из края в край. Потом выступали председатель сельсовета и участковый. Клеймили Гитлера и воодушевленно заявляли, что не пройдет и месяца, как фашисты будут разбиты, а их пособники в Европе предстанут перед справедливым судом народов.
Порфишка стоял в дверях. Его несколько раз толкнули. На улицу высыпали семилетние сорванцы и, размахивая тальниковыми прутами, вприпрыжку, ринулись на заросли крапивы, растущей вдоль неказистых заборов.
– Война началась! Война началась! – звенел детский голосок из поднявшихся зарослей.
– Папка врагов бить поедет!
И слышно было, как свистели в воздухе шашки-хворостины, и видно было, как ложились под напором атакующих зеленые крапивные стебли.
– Вижу озеро в тумане, вижу синий пароход. Мой миленочек в шинели, отправляется в поход, – помахивая платочком над головой, пела чрезвычайно веселая Глашка и не сводила глаз с бригадира полеводческой бригады, объявившего при всём честном народе о завтрашней поездке в военкомат.
– Мамонька, я на войну тоже пойду? – спросил Порфирий за столом, когда в понедельник собирался на работу.
– Чо ты, Фирюшка, – и о плиту собранного в ограде таганка ударила сковородка,– Тебе еще рано. А Пантелей вчера сказывал, наши скоро всех побьют.
Но повестку из военкомата принесли Порфишке в июле. Мать схватила парня за руку и потащила за собой в сельский совет.
– Не вышел он сроком на войну, – выдохнула она и заплакала.
– Не бузи, Евдокия. У Митрофановых, вон, сын нынешним летом механик. Такой человек в колхозе на вес золота. А ему первому принесли…. Завьялов – бригадир. Сам пошел. Твоему, пока суд да дело, восемнадцать тоже исполнится. Не завтра же его на фронт. Учить будут. Месяца три в лагерях проваландатся. А там и война благополучно завершится. Ну, подумай сама. Митрофанов механик, а твой водовоз. Честь какая! В Красную Армию поступит, Родину защищать пойдет. Да я сам вот-вот … – председатель сельсовета выдернул из горла графина пробку и стал жадно пить прямо из горлышка.
Комсомольский актив решил проводить ребят в Армию с честью. Устроили собрание, потом показали концерт и завершили проводы танцами. Порфирий сидел на концерте, в перерыв вышел в прихожую. Танька подала ему бутерброд: на кусок ситного было намазано настоящее сливочное масло, а поверх масла лежал толстый ломоть вареной колбасы. Такой сладости Порфишка не едал. Раза два мать приносила пеклеванного хлеба, так и он казался шаньгами. А тут… Вторую часть концерта Порфишка провел в думе, как бы у Таньки еще попросить кусочек такого лакомства. Выходило, что никак. Но Танька сама догадалась. Когда девки и парни стали раздвигать лавки для танцев, она позвала Порфишку и, таинственно улыбаясь, протянула завернутый в газету подарочек. Запах колбасы пробивался и сквозь газету. Порфирий поблагодарил Татьяну, раскланялся и припустил домой. Мамонька такой еды и не видывала, наверное. Как драгоценность он положил свой сверточек на стол и медленно развернул бутерброд, отложив в сторону страницу «Заветов Ленина». Но мамонька не к еде шагнула, а положила на стол газету, разгладила её и, аккуратно свернув, убрала в сундук. Подивилась на богатство и пошла разводить таганок, чтобы вскипятить чайник. Порфишка заглянул в сундук. Портрет товарища Сталина слегка испачкался жиром и помялся. Какая все-таки мамонька умница, а он-то и не подумал про Иосифа Виссарионовича.
Порфишка пошел за околицу к речке. У клуба то заливалась, то стонала и плакала гармонь. На Порфишкином месте кто-то был. И он подкрался тихо, стараясь не спугнуть девушку. Когда оказался за спиной, узнал, что на его бревнышке сидит Танька. А Глаша, наверное, опять отплясывает с бригадиром.
– А я, Фиря, в город пойду жить. Говорят, девушек набирают в больницы сиделками и сестрами милосердия. Я сестрой буду, – сказала Танька и пронзительно долго посмотрела на парня не нашедшего, что ответить девушке.
В строю Порфишка был самый низеньким и худым. Военный, приехавший за новобранцами, несколько раз спрашивал, не болеет ли чем парень? Не соврал ли про возраст? Но председатель сельсовета уверял, что Порфирий жилистый и дисциплинированный. И сам вызвался служить в армии вместе со своими односельчанами.
Полгода от Порфишки на село не приходили письма. Евдокия часто плакала, когда Нюся-почтальонка проходила мимо нее.
В январе сорок второго Нюся увидела стоявшую у коровника Евдокию, остановилась, как будто вспомнила что-то. Быстро передвинула сумку и стала перебирать солдатские треугольники. А Евдокия подняла ведро и пошла в закут. Наконец, Нюся нашла письмо, выхватила его и, вздернув руку над головой, не в силах превозмочь волнение и окликнуть Евдокию, побежала к хлеву.
Сама Евдокия читать не умела, поэтому тут же, прижав драгоценный клочочек бумаги к груди, бросилась со всех ног к Софье Смолиной. У Смолиных вечеряли. Но тут же отложили ложки в стороны. Татьяна первой протянула руку к солдатскому треугольнику. Адрес был выведен большими овальными буквами правильного Фириного почерка. Но некоторые знаки от химического карандаша уже расплылись, так долго шло письмо с фронта. Матери внимательно стали слушать Порфишкино письмо:
«Здравствуй моя дорогая мамонька! Во первых строках письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Мамонька, ты передавай всем нашим соседям привет от меня. И Глаше скажи, что теперь я служу в Красной Армии. Ношу с собой винтовку. А Таньке скажи, что ситного с тушенкой уже несколько раз кушал. И тушенка намного вкуснее колбасы. Мамонька, ты сходи к Таньке, и отпишите мне, как у вас дела обстоят. Есть ли корм корове? Меня и мою Пеганку, мою лошадь, которую вручили мне как имущество Красной Армии, на фронт пока не посылали. Мы с ней служим у докторов, подвозим воду и пищу в санбат. Так тут называется большая военная больница. Около нас стояла пулеметная бригада. И я в свободное от службы время ходил к их старшине, изучал пулемет «Максим». Старшина обещал взять меня к себе пулеметчиком. Но пока приказа не было. Тут, мамонька, все нужно делать по приказу. Тогда начальство тобой довольно, а ты все успеваешь. Ты, Мамонька, не горюй. Если у вас будет такая возможность, пришлите мне посылкой теплые носки и вязаные варежки с пальцем, как у охотника Степана Михайловича.
Мамонька, кланяйся всем, кто у нас в деревне есть. Я по всем так сильно соскучился. А Таньку поцеловал бы. Вам здоровья. И ждите меня домой. Вот наступит лето, мы этих немцев выгоним. Знающие люди сказали, что тут, где я сейчас служу, до границы совсем недалеко, рукой подать. Будто от нас как до Бродокалмака доехать. До свидания».
Софья усадила Евдокию, а сама слазила в подпол, достала поллитровочку первача. После второй рюмки заставили Татьяну читать письмо второй раз, а потом и третий. Сначала плакала только Евдокия, потом бабы плакали вместе.
Суровая в тот год была зима. Но в деревне и ее пережили. Танька написала к Порфишке несколько писем. Дуня диктовала первые три строки, в которых посылала приветы от себя и всех соседей, рассказывала, что она и корова живы и работают. И замолкала. Остаток письма Танька сочиняла сама.
К первой ростепели пришло от Порфишки другое письмо. Опять читали у Софьи Смолиной.
« Дорогая моя мамонька, кланяюсь вам и всем нашим сродственникам и соседям. Сам я жив и здоров, чего и вам желаю. Получил от вас посылку и премного благодарен. И Софье Терентьевне, мамонька, передайте огромную благодарность бойца Красной Армии, очень знатные у нее овечки. Шерсть, как печка. Я тихонько от командира надею сначала носки, а потом заворачиваю портяночки потуже, и в ботинках у меня ноги не колеют. Валенки-то я потерял. Обул в них раненого командира, когда с передовой ночью ехали. Да в сутолоке и потерял. Еще мне наш комендант хотел сделать взыскание за то, что я со стола кусочки собираю. Думал, что я мародерствую. Пришлось коменданту объяснять и показывать, как мы с моей Пеганкой научились от обстрела прятаться. И Тане передавай поклон, почерк у нее красивый и слов разных она знает много.
Еще, мамонька, бывал у нас раненый снайпер. Это такой человек, который из ружья без всякого промаха стреляет. Я у него всякий вечер дознавался, как бы и мне так здорово научиться на всякий случай. Он, когда на поправку пошел, учил меня. Теперь я стреляю без всякого промаха. Наш самый главный доктор даже экзаменовал меня. На сто шагов унес банку и поставил на пенек, говорит, если я в банку попаду, то он мне стакан спирта выдаст. Я попал. Спирт пить не стал, уж больно он шибко горло дерет и дыхать не дает. Но другие солдаты, что постарше меня годами будут, меня сильно благодарили. И один из них, ефрейтор Пилипенко, сказал, что как только он поправится, так сразу меня заберет в свою роту и увезет в славный город Волхов. Дорогая мамонька, если у вас выдастся возможность купить гвоздичного одеколону, перешлите мне. Буду премного благодарен. Места службы пока не сменил, и пишите мне по старому адресу. Кланяюсь вам многократно и желаю вам большого здоровья и счастья. К осени мы немцев из нашей земли должны выгнать. Остаюсь ваш боец Красной Армии Скрипов Порфирий».
– Чего это он, Дуня, все учится? А сам, как в колхозе, в водовозах ходит. Второй раз уж обещал немцев выгнать, а сам до них еще и не тронулся. В больнице сидит.
– Дело военное. Куды поставили, там и воюет.
– Ой ли? Дурачком прикинулся. Пулеметам учился, теперь вот стреляет хорошо. Пусть скажет, мол, так и так, хочу на фронт.
– Не злись Софья. Пошлют, когда надо будет.
– И правда, мама, что бы к тете Дуне пристала. Он раненых с поля боя возит, а не в колхозе грыжей болеет, как у Сидоровых, – вдруг подала голос Татьяна.
И обе женщины посмотрели на нее внимательно и с бабьим интересом.
Ушла Евдокия от соседки с обидой.
Но когда получила в начале зимы очередное письмо, деваться было некуда, снова постучалась к Смолиным. Остановилась в воротах.
– Вы уже и картовь выкопали?
– Кое-как меж дождей осилили. А ты-то сена нынче запасла?
– В стожках осталось. Вывозить-то не на чем. Председатель сказал, по зиме. Освободятся от работы лошади, так даст вывезти. А то Пеструха моя околеет. Ночи-то уж вона какие холодные. А я картовь еще не выкопала. Боюсь, останется и замерзнет.
– А ты чего пришла-то, Дуня?
– От Фирюшки письмо принесли. Так я бы почитать. Горе мне, грамоты-то не знаю. Ко Глашке заглядывала, так она с солдатом в город ушли. Мать сказала на чегрес через копровый пошли.
– Ну, заходи.
Сразу Татьяну усадили за стол.
«Здравствуй, дорогая моя мамонька! Сообщаю вам, что со мной все в порядке, хотя этим летом пришлось нам с Пеганкой побывать во всяких передрягах. Ходить в наступление и отступать. Бывал я, мамонька, и под вражеской бомбежкой, когда сыплют с самолетов на голову гранаты и не видят, кто там по земле бегает – танк железный или человек болезный. Пеганке осколком оторвало ухо. Так я её насилу догнал. Посылки вашей я не получил, так как стронулись мы с адреса и носило нас все лето по неезженым дорогам. Скажу я вам, что худо тут людям куда больше. Потому что войной все не на раз перелопачено, сожжено и перевернуто. Я теперь уже сильно обвыкся. Главный наш доктор очень хороший человек и нас с Пеганкой не обижает. Для порядка не строит и дает выспаться. Иной раз приснитесь вы и Танюшка. Будто мы с вами в огороде, а она у плетня. Совсем уже ладная девка. Глаша за все время не снилась мне ни разу.
Еще, мамонька, когда мы с фронта отходили, нашел я склад. Пять больших ружьев и два ящика патронов к ним. Ружья такие железные, чтобы из них стрелять по танкам. Привез в санбат и сдал. Но покуда спрашивал, куда сдавать, солдаты мне показали, как с таким ружьем управляться. Я теперь стал много больше в технике понимать. Свою винтовку я разбираю с закрытыми глазами, и всегда её чищу и ношу с собой снаряженную. От бойцов нам с Пеганкой досталось три гранаты «лимонки». Пожилые солдаты говорят, что у нас полный арсенал и мы готовы к отражению атак. Вы, мамонька, не беспокойтесь, скоро, должно быть, мы немцев разобьем, и я к вам приеду в отпуск. Тут говорят, что как мы немца до нашей границы отставим, так нам дадут отпуск, чтобы повидаться с родными. А там уж и в поход до самого Берлина. Очень хочу повидать и вас, и Таню, и тетю Софью, и на Глашу с дядей Пантелеем взглянуть. Приснился мне на днях Михаил Куликов, наш школьный истопник, и говорит: «Жду я тебя, Порфирий, у околицы этого самого Берлина. Одному не совладать». – А я ему отвечаю, мол, чего ждать-то, Михал Захарыч, пойдем штурмовать Берлин и Гитлера ловить. И мы пошли. Он так поперед меня немного. Храбрый так-то, только почто-то босой. А я за ним следом. А еще я вам высылаю справку на дополнительное довольствие. С ней идите прямо в сельсовет и говорите, что вам по этой справке полагается мыло и продовольствие. Так как я, ваш единственный кормилец, сейчас нахожусь на фронте и бьюсь с гитлеровскими гадами. Желаю вам, мамонька, здравствовать и жить долго и счастливо. Обнимите и поцелуйте за меня Танюшу. За сим остаюсь ваш сын и боец Красной Армии Порфирий Скрипов».
Письмо было вроде бы веселое. Но, когда услышала Дуня о Михаиле Куликове, зашлась слезами.
– Не увижу я Фирюшку более…
– Да чего с ним станется? – Софья стала наливать морковный чай, – Михал Захарыч-то танкой командовал. А Порфишка воду на телеге в больницу возит. Как служил, так и служить будет. Не рви сердца, Дуня. И не дуйся. Раз там поставили, значит, там нужен. Теперь всяк человек на своем месте нужен. Танька моя удумала в город. А кто тут будет? Говорю ей, кто за нас хлеб да картовь растить станет, коров доить? Раненых лечить – это хорошо. Но в перву очередь их кормить надо. Кое-как угомонила.
Потом от Порфирия писем не было долго. Евдокия каждый раз вопросительно вскидывала голову на Нюсю почтальонку, но та в ответ только качала головой. Дуня старалась сдерживаться на людях, но дома давала волю слезам. Особенно осенью и зимой, когда ухаживала за коровой по темноте. Во мраке хлева так становилось страшно и тоскливо на сердце, что женщина не вытирала выкатывавшихся из глаз слез. Случилось Софье зайти поздним вечером к Евдокии.
– Ой, мамоньки! – Софья схватилась рукой за грудь и оперлась на косяк, когда Евдокия наклонилась к лампе, чтобы поправить фитиль.
На соседке лица не было.
– Дуня, случилось чего? – прошептала Софья Терентьевна.
–Нет. Бог миловал. Затосковала чего-то. Душа стонет, белугой ревет.
Софья тут же взвилась куропаткой:
– Не реви, Дуня. Уходишься раньше времени, мы чего твоему Порфишке скажем-то? Вернется он, а мать уревелась до смерти. Не реви. Ежели бы что с твоим Фирькой случилось, пришла бы официальная бумага. Так, мол, и так, пал смертью храбрых. И тебе пензию давать станут. Провались она пропадом, такая деньга. А раз нет бумаги, стало быть, живой. Угнали куда или переезжает с места на место. Война, она не драка улица на улицу. Она вона как размахнулась, от моря до моря. А это, поди, тыща верст с гаком.
– И то. Софья, у тебя денег не будет? Я тут на дальние поля ходила, а там за Еремеевыми кустами три суслона стоит. Мне бы полотна с метра два прикупить.
–Танька деньги извела. На карточку. В город ходила и с себя карточку сделала. Я её, дуру, чуть не напаздирала. Денег кое-как скопили. Говорю, купи обувку на весну. Те башмаки, что были, совсем изорвалися. Так, нет. Теперь боса ходить станет. Зато карточку на себя справила. А за рожью, Дуня, ночью идти надо.
– Ночью? А ежели волки? Нет, Софья. Днем надо материю расстелить и отрясти. Снопы-то, если их мыши не побили, сами отойдут. А потом завернем и в контору сдадим.
– Да ты чего?
– А как, Софья? Мы тут как-нибудь. А солдатикам хлебца. С трех суслонов больше полпуда будет.
– Вот видно, Дуня, что вы не в себе. Ты одна тут. А была бы с семьей, не то спела. А все думали, в кого Порфишка? В кого? В тебя! Малахольный! Сама иди за суслонами. Мне некогда.
Дуня на следующее утро раздобыла санки и ушла к Еремеевым кустам. За работой забывалось, что от сына давно не было писем и не думалось о плохом.
В феврале сорок третьего от Порфишки снова пришло письмо. Долгожданную весточку читали двумя семьями.
«Здравствуйте, дорогая моя мамонька! Сообщаю вам, что я жив и здоров. От вас получил сразу пять писем, что вы мне написали. И от Тани получил письмо. Какая она стала особенная. Носил их с собой в сидоре и читал, когда наступило большое затишье. А по за тот день сидор мой сгорел огнем. Нашу больницу перенесли к самому переднему краю, чтобы мы наших бойцов спасали прямо из боя. Мы с Пеганкой бессчетно раз по ночам бывали на самых передовых позициях. А один раз послали нас с Пеганкой под вечер. И только мы забрали раненых, как начали фашисты наступать. И загнали нас в лес. Вот сидор мой тут и пострадал. Леса здесь, мамонька, плохие. Топкие. Не то, что у нас. А как загнали нас немцы в лес, так один солдат, кулак или подкулачник бывший, стал говорить, что, мол, давайте выйдем и немцам в плен сдадимся. Что они, мол, нам сделают, когда мы не большевики и не жиды. Без оружия и раненые. Но я подумал, как вы мне, мамонька, говорили: «А что моей маме про меня скажут, когда узнают, что я трус и предатель?» Я того солдата убивать не стал, но винтовку с плеча снял и пуганул его. Он убежал в лес. А мы ночью потихоньку от немцев к своим вышли. Меня наш доктор благодарил и жал мне руку, и сказал: «Закончится, Порфирий Иванович, наступление и работы поменьше у нас будет, обязательно представлю тебя, как настоящего героя, к медали «За отвагу». Не подумай, мамонька, что я хвастаюсь. Все так на самом деле и было.
А еще, мамонька, хочется домой. Я бы вас всех обнял и расцеловал. И Танечку, и тетю Софью. А дяде Пантелею я тут приготовил подарок. От одного очень высокого офицера остался портсигар и мундштук. Офицера я с Пеганкой с передовой вез, не растрес и доставил живого. И сохранил и письмо, и документы. Но офицер умер. И когда его жена приехала, я ей все подал, что от мужа осталась. Она заплакала и благословила мне портсигар и мундштук в память о её муже. Но я, мамонька, не курю. А за мою махорку в довольствии мне курящие мужчины отдают сахар. И мы с Пеганкой иной раз балуемся сахарком. Если бы можно было, я бы сахар вам послал. Только бывалые говорят, не дойдет. Новые прибывшие говорят, худо у вас с едой. Но вы уж как-нибудь от землицы кормитесь. В этот раз так мы фрицам по рогам наваляли, что разбежались они в разные стороны. А наши армии теперь соединились с городом Ленинградом. Мы праздновали Победу. И вы празднуйте. И ждите моего скорого возвращения. До свидания, мои дорогие. Писал вам ваш Порфирий Скрипов».
Заканчивалась зима сорок четвертого года. На улице стало подтаивать. Сугробы осели, а под натоптанным настом океаном стояла вода. Нюся почтальонка пробегала улицу, да возвращалась на почту, сушить бурки. В этот раз она припозднилась и пришла на почту после обеда – из районного центра как раз привезли кожаный мешок с письмами и извещениями. Старая хохлушка, дородная и хромая Варвара Задорожная, высыпала мешок на прилавок и стала сортировать почту. Нюся сидела у печи, сушила чулки и грела ноги.
– Скиповой извещение, – бесстрастно проговорила Варвара, – сама отдашь, или Степаниде Усовой нести? Степанида вроде как представитель власти, от сельсовета. Пусть она отдаёт.
– В извещении-то что?
– Обычно. Ваш сын, красноармеец Скрипов …. Пропал без вести…, – голос у Варвары дрогнул, она засипела, закашлялась и повалилась на конторский прилавок.
Нюся знала, что у старухи под клеенкой круглого стола в горнице лежало четыре таких серых лоскутка – на мужа и сыновей, погибших где-то под Ленинградом еще зимой сорок второго года.
С извещением Нюся пошла к Евдокии сама. Подала. А Дуня взяла и не поймет, что за бумажка.
– Пойду к Татьяне, пусть разберет, может я налог какой забыла.
Нюсю охватил озноб. Она всхлипнула, сгребла Евдокию в охапку:
– Налог! Ой, какой налог, Дуня! Не снести одной, не оплатить за всю жизнь. Сы-ы-но-ооочка твоего….
– Фирюшку! – выдохнула Евдокия и обмякла.
В тот же день сорокалетняя женщина превратилась в старуху и стала доживать свой век в тихой покорности.
Про Порфишку вспомнили в шестьдесят седьмом. В тот год на общем собрании деревни решили установить обелиск в память всех ушедших на фронт и не вернувшихся с войны односельчан. Запросили данные из военного комиссариата. Пришла бумага со ста пятнадцатью фамилиями.
Девятого мая в десять утра собрался у нового памятника митинг. Пришли все от мала до велика. Директор школы сказал проникновенную речь. К обелиску установили венки и положили букеты первых полевых цветов, обвили подножие еловой гирляндой. Мужики уже собирались наливать по сто наркомовских, когда выступил к обелиску пожилой военный комиссар.
– Дорогие мои! Скажите, есть ли среди вас Евдокия Ивановна Скрипова?
Дуня вздрогнула, но осталась стоять на месте среди женщин. Софья Смолина дернула ее за рукав. И когда военком попросил Евдокию выйти к столу, Софья Терентьевна проводила соседку и встала рядом на всякий случай. К военному комиссару подошел невысокий незнакомый мужчина лет сорока, на пиджаке которого было не меньше десятка наград. Он осторожно принял из рук офицера красную коробочку. Замер в трех шагах от женщин, а потом поклонился смущенной и зардевшейся Дуне до земли.
И пролилась в этот момент на большое село тишина. Казалось, птицы замолчали в эти минуты, онемели деревенские собаки, улегся весенний ветер, умерли звуки. Все, абсолютно все, и те, кто был в первых рядах, и кто стоял позади, услышали негромкие слова незнакомца:
– Прими, мать, орден. Его не смог получить твой сын, но мы знаем, какого храброго, достойного человека нашей Родины ты вырастила. Я и мои товарищи обязаны своими жизнями твоему сыну, Порфирию Ивановичу Скрипову. Он был скромным и незаметным тружеником войны, но когда настала минута испытания, он не дрогнул. Спасибо тебе!
Никто никогда в деревне и не видел, чтобы Дуне кто-то руку подавал, а фронтовик эти коричневые, растрескавшиеся, иссохшие на солнце и ветрах, впитавшиеся навсегда земной прах руки стал целовать. Бабы и дети плакали поголовно. Плакала Дуня, плакала Софья Терентьевна, плакала рыжая и веснушчатая, как молодая волнушка, тридцатилетняя Татьяна.
Вечером собрались в скромной избушке у Дуни. На божнице, между почерневшими ликами Спаса и Богородицы, не так давно оклеенными серебристой бумагой из чайной упаковки, стояла открытая коробочка с бордовой пятиконечной звездой. Дуня часто бросала взгляд на орден и на иконы, утирала слезу и что-то шептала. Мужчины чинно поминали Порфишку. Фронтовик рассказывал, как Порфирий остался с раненными. Не пришла машина, чтобы вывезти всех в тыл. Как потом к захваченным немецким блиндажам прибежал перепуганный мальчишка-солдатик и крикнул, что прямо на них идут несметной ратью фрицы. Неходячие бойцы стали уговаривать забрать офицеров и попробовать на лошади проскочить к своим, но Порфирий отказался.
– Не могу вас бросить. Я маме зарок дал, жить честно, – только это и сказал.
Пошел на временный оружейный склад, укатил на позиции пулемет «Максим», унес противотанковое ружье. От блиндажей далеко ушел. И вступил в бой с фашистами. Фронтовик, бывший в тех санитарных блиндажах, выкарабкался в окоп уже под конец боя. Недалеко от окопов горели танк и бронетранспортёр. Оставшиеся без поддержки техники пехотинцы в шинелях мышковатого оттенка уходили к лесу, искать другое место для прорыва. А обозлившийся минометчик клал по пустым окопам тяжелые мины. Сколько не звал раненный боец своего спасителя после боя – Порфирий не пришел. На следующий день не нашли его и солдаты подошедшей свежей части. Потом в кутерьме боев больше никто и не вспоминал о солдате санитарного батальона. Уже в госпитале оставшиеся в живых бойцы рассказали военному корреспонденту фронтовой газеты о своем счастливом спасении. Кто-то вспомнил имя обычного водовоза санитарной части, доброго и словоохотливого парня из уральской глубинки, не отступившего перед врагом. Потом фронтовой корреспондент узнал фамилию…
Фронтовик уехал на следующий день. Дуня умерла через год. Так и кончилась семья.
Бабушка Татьяна замолчала. Прикусила губу. И непослушная слезинка выкатилась на щеку. Притихли гости.
Сергей Костромин положил перед старушкой коробку и снял крышку. В коробке лежал раскрытый серебряный портсигар, в отделениях которого покоились две пожелтевшие фотографии из далекого сорок четвертого года. На одной молоденький солдатик в несуразно большой шинели и старенькой, напяленной на голову пилотке, на другой девчушка, улыбающаяся доброй и ясной улыбкой. Рядом с портсигаром лежали прочитанный медальон, треугольник неотправленного письма и костяной мундштук. Все это было найдено в немецком окопе, среди полуистлевших кусков солдатской шинели. Ещё под ее лоскутами были два цинка пулеметных лент и разрозненные части пулемёта «Максим». Но ни единой косточки рядом не было.
Бабушка Таня, замерев, смотрела на изображение солдатика. Дрожащая рука так и не коснулась хрупкой бумаги. Старушка только подержала над фотографией ладонь. Ни на кого не обращая внимания, тихо проговорила:
– Скоро, Фирюшка, мы с тобой встретимся. Я тебя не дождалась, так ты меня дождешься. Только уж внимания не обратишь. Ты-то, вон, молоденький какой….
P.S. Пятью годами позже Сергея Костромина осудили на пять лет за расправу над молодыми гражданами города, пытавшимися продать через интернет украденные у немощного фронтовика награды.