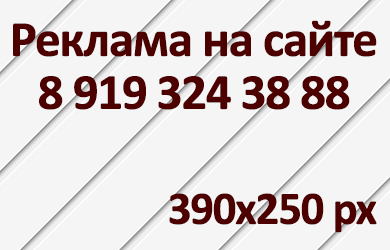Запутанная история, продолжение. Пока никто не копается в нашей жизни, она остаётся незаметной и прозаичной. Но стоит пошевелить несколько рубашек в шкафу, призраки прошлого оживают и не дают спать по ночам.
Потапов
На меня смотрели ясные, добрые глаза, в которых затаилась какая-то детская грусть. Он открыл дверь и, даже не спросив, кто я, отступил в сторону. Приглашая меня войти в дом. В Челябинске так не поступают. Чаще приходится разговаривать через запертую дверь, совсем редко – на пороге.
Коля Потапов был стар. Опрятно одетый старичок, без суеты показал мне на свободный стул, стоявший перед демонстрационным станком, на котором было уложено несколько картин, закинутых серой тканью. Всё пространство в доме занимали произведения. Это были либо пейзажи, либо ситуативные картинки из деревенской жизни.
– Вам какое направление показать? – спросил Потапов.
Теперь я знал, художник умел зарабатывать деньги. Но сокровенного, того, что написано сердцем, Николай мне показывать не станет. Нормальный человек.
– Я к вам, Николай…, – я не знал отчество этого человека.
– Алексеевич. Николай Алексеевич. Вы не за картиной? Да?! У вас взгляд сыскной собаки. Извините. Но, если мои картины и стали предметом подлога или выданы за творения великих художников, я ничем вам помочь не могу. Ничем, – он развёл в стороны руки, да так и остался стоять, в полной растерянности.
Трудно моментально понять, будет с тобой разговаривать человек о том, что интересует именно тебя, когда он, на первый взгляд, открыт. Но на самом деле, у добряка и жителя не этих миров вся душа за семью замками.
– Где вы учились станковой живописи? В Суриковском? В Строгановке?
Старик ухмыльнулся.
– Не угадал! Но и на Нико Пиросмани вы не похожи. Пропорции почти геометрические. Про стили ничего не скажу – не знаю.
– Архитектурный.
– Что архитектурный? – не понял я.
– Архитектурный институт города Свердловска. Про такой город слышали?
Я кивнул. В это время в дверь постучали. Николай отворил её точно так же как мне, сразу отступив в сторону. В дверной проём вихрем ворвалось несколько мальчишек и девчонок с художественными папками под мышками. В маленькой комнате мгновенно пропала ощущение одиночества. Но гвалт быстро прекратился. Дети расселись на ниоткуда появившиеся раскладные матерчатые стульчики, деревенские табуреты и непрочные старые стулья.
– Мне более нечем помочь вам, – учтиво сказал художник, наклонив туловище чуть вперёд и в бок, оставалось соответственно сложить руки, и получился бы красноречивый жест, предлагающий выйти вон. Но он этого не сделал. И мне было позволено сделать выбор. Я остался сидеть.
Художник кивнул и стал разговаривать с детьми. «Наивность все-таки в нём есть, – подумал я, – Он желает научить этих детей не просто быстро и правильно изображать предметы на бумаге. Он хочет пробудить в них мысль. И увидеть искру божию. А нужна ли она им будет в жизни? Всем ли помогла эта искра? Некоторым страшно навредила, когда детские надежды не оправдались во взрослой реальности», – так я думал, немного рассеянно переводя взгляд с картины на картину. Что-то остановило меня. Я смотрел на большой холст, висевший в простенке между маленькими окошками. На первый взгляд это была бессмысленная мазня с разнообразными цветными точками, то собиравшимися в некие созвездия, то тянувшимися искривлёнными линиями, создающими пространства тьмы и света.
Сколько продолжался детский урок, я не точно сказать не могу. Ученики простились с учителем, когда в комнату пробрались сумерки. Николай сходил во двор и принёс охапку дров, потом долго возился у печи. Жестом пригласил выпить чаю. Я сел на лавку под портрет. Он напротив.
– Это она? – спросил я.
Рука художника сильно дрогнула, и сахарный песок из чайной ложечки просыпался на стол.
– Это она, – сказал я уверенно, – И вы, вероятно, знаете, где она.
Мы смотрели друг на друга не мигая. Так иногда делают дети в попытке настоять на своём.
– Нет. Не знаю, – наконец, ответил художник. – Теперь и знать не хочу.
– А в юности? Когда учились в архитектурном, хотели? – это был выстрел наугад.
Мне показалось, что этот человек знал Маргариту Энгельгард давно. Знал её такой, какой она была на фотографии в двадцать с небольшим. А не той, про которую рассказывали бабушки на соседней улице.
– Что вам от меня нужно?
– Краткую биографию Маргариты Энгельгард, Маргариты Потаповой, вашей жены, если верить документам.
– Нет никаких документов. Мы не оформили отношения.
– Ошибаетесь, Николай Алексеевич. Документы есть. Только в тех документах умерли вы. И вдова перебралась жить в Челябинск, вышла ещё раз замуж и стала Летягиной, потом расторгла брак и попросила изменить фамилию, отбросив первый слог. Некто Маргарита Тягина была знакома с Яковом Нефедовским и Львом Рацибуржинским. Одного из них она спасла от долгого тюремного срока, а другого смогла уговорить до нитки обобрать первого и исчезла. Все думали, что при невыясненных обстоятельствах грабители пристукнули старушку случайно, но через восемнадцать лет старушка подала прошение о возвращении на родину.
Художник Потапов, сидевший напротив меня, дурацки улыбался, а из его потускневших, приобретших вековую скорбь, глаз выкатывались крупные слёзы и тут же терялись в крупных морщинах измождённого жизнью лица.
Потапов ночью
Когда я открыл глаза, Потапов сидел за столом. Перед ним, качая язычком пламени, горела свеча. Её несмелая искра отражалась от резкой грани бутылки. Художник пил. Или только собирался.
Я натянул брюки, подошёл к столу и рядом с его стаканом поставил свой. Потапов посмотрел на меня и налил в него водки, передвинул в мою сторону краюху черного хлеба с выложенными на ней тремя тушками маринованной кильки и четвертинкой репчатого лука. Я выдохнул и выпил стакан, не останавливаясь, присел к столу и с огромным наслаждением стал есть хлеб с килькой и луком. У Потапова кадык сделал несколько судорожных движений. На мой вопросительный взгляд он ответил:
– Я не могу. Если выпью, развяжу. А я детям слово дал. Обещал к весне научить радости. Должен научить.
– Радости может научить только счастливый человек, – парировал я.
Хмельное растекалось по жилам, отбирая напряжённость последних дней.
– Я был счастливым человеком. Даже несколько раз. Первый раз, когда встретил Ритку. Её привели ко мне в студию мои друзья. Она была беременна, напугана, растеряна и несчастна. Какое это было время!
Незапамятные времена
Молодому, начинающему, но талантливому художнику, выполнившему очень важную государственную работу, при содействии нужных людей выделили мастерскую. Плевать я тогда хотел на все косые взгляды непризнанных гениев. Мне хотелось работать, работать и работать. В мастерской стояло сразу несколько станков. При станках жил я. Конечно, в мастерскую приходило множество народа. Приносили, что бог послал, а потом курили, пили дешевое вино и спорили. Обо всём! О Высоцком, об Окуджаве, о Рерихе. Таинственный, двоякий художник. О космосе. Мне очень нравилась космическая тема. Всё молодо. Я, новая живопись, космос.
Однажды привели её. Она была беременна, напугана, растеряна и несчастна. Я даже не сразу обратил внимание на красоту её лица. Почему-то у беременных женщин на первый план выступает живот. Весь вечер перед глазами маячил этот живот. Её кто-то уговаривал, кто-то что-то советовал, напутствовал и так далее. В полночь выяснилось, что ехать ей далеко. Ехать не на чем. И жить она будет у меня.
Наутро я не мог себе объяснить, что стало со мной. Я понял нюансы одной картины и разрешил вопрос о работе над второй. Я чётко в это утро знал, чем я буду зарабатывать на пропитание, и что буду писать для потомков. Она варила кипяток и резала бутерброды. У меня рождались идея за идеей. Она в тазике стирала мои и свои шмотки. На пятый день я узнал, что она выпускница юридического факультета с неразрешимыми проблемами во взаимоотношениях с противоположным полом. Но она всё равно будет рожать. И сделает это через полтора месяца.
Она, Рита Матвеева, имевшая красный диплом университета, была набитой дурой, в которую я влюблялся день ото дня. Странное дело. У меня выросли крылья. Я всё успевал. У меня всё получалось. Когда я привёз её из роддома, в один из вечеров я был поражён. Рита сидела у окна, в которое весело врывалось полуденное солнце. В сумраке мастерской луч позолотил витавшие в воздухе пылинки и запутался в Ритиных волосах. От её головы, чуть склонённой набок, исходило сияние. Поверьте, я это сияние видел. И потом никогда не противился фантазиям древних художников, писавших над головами святых золотой нимб.
Продолжение следует